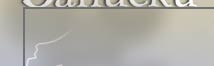|
 |
|
Виктория ЛЕВИТОВА
Цель нашего исследования красноречиво, хотя и с известной долей интригующего обобщения обозначена в его названии. Мы видим свою задачу не в том, чтобы дать панораму эстетических концепций режиссера или поэтапно проследить смену стилистических векторов его творчества. Взяв полистилистичность за основу художественного метода этого незаурядного чешского аниматора (теоретика, сценариста, художника, скульптора—интересы его личности столь же многогранны, сколь неиссякаема фантазия), мы будем стремиться к анализу художественного пространства его фильмов как недифференцированного авангардного поля. Предварим же исследование высказыванием самого мастера, в котором сформулировано объединяющее начало его экспериментальных принципов: «Я действительно считаю главным дефектом цивилизации ее утилитаризм—то, что она не смогла отвести достойное место в обществе присущей человеку иррациональности, и поэтому иррациональное, которое невозможно подавить, продирается на свет божий в виде абсурдности»[1].
Изучение Я.Шванкмайера в культурологическом контексте инспирировано избыточной цитатностью, в числе прочих аспектов присущей поэтике сюрреализма как направления, определенным способом переворачивающему традиционную образность. Поэтому ключ к творчеству режиссера можно подобрать, применив призму сюрреализма и других модернистских течений, а его поэтику, внутри которой пересекся ряд особенностей чешского искусства в свою очередь использовать для объяснения художественного контекста. Избрав основным принципом для данной работы движение в пространстве ассоциаций внутри чешского искусства и—шире—мировой культуры авангарда, мы будем по возможности остерегаться концептуально выстроенных утверждений о влиянии в историческом ключе (для этого требуется более узкое, детальное исследование) и четких предположений, касающихся сознательного цитирования. Наши поиски сосредоточатся на сквозных лейтмотивах, которые могут выходить за заданные хронологическо-географические рамки.
Одной из главных особенностей чешского сюрреализма является то, что иррациональное в нем находится в тесной связи с рациональным. Подобным синтезом направление во многом обязано членам Пражского лингвистического кружка Я.Мукаржовскому и Р.Якобсону, которые, сотрудничая с яркими представителями художественного течения, подвергли его структуралистскому анализу, предложив интерпретацию вне ограниченной психоаналитической направленности и значительно расширив пространство применения принципов авангардного искусства. Пользуясь этим сведением, оговоримся: кинематограф чешской «новой волны» мы будем рассматривать как искусство, целиком построенное на авангардных принципах (в отдельных случаях) или же в рудиментарной форме содержащее эти принципы в киноязыке (в ситуациях, когда текст приближен к традиционалистскому). Предложенная работа будет считаться удавшейся, если по ее окончании название поддастся инверсии: «Чешская культура сквозь Яна Шванкмайера».
Сверхреальность, заключенная в реальности
С момента своего зарождения чешский сюрреализм находился в тесной связи с сюрреализмом французским, но, пожалуй, едва ли не уникальной особенностью, отличающей чешское искусство, можно назвать непрерывность развития модернистских течений (с тем различием, что в наиболее удачные периоды эти течения выходили на авансцену, а в годы фашизма и в послевоенной «социалистической» Чехословакии—продолжали свою деятельность в подполье). Тем не менее, параллели между культурными традициями двух стран обнаруживают поэтическую основу французского киносюрреализма, образы которого дают поэтической метафоре зрительный эквивалент. Даже умышленно шокирующая символика, мотивы гниения, разрабатываемые Л.Бунюэлем в «Андалузском псе» (1928), отталкиваются от литературной образности. Этот «фильм сознательно делался именно как образец сюрреалистской поэзии в кино. <…> Такая установка, по-видимому, в какой-то степени могла стимулировать попытку прямого переноса структуры сюрреалистского тропа из литературы в кино»[2] .
Чешский модернизм зачастую связан с оттенками саркастического отношения к действительности, применяя к ее познанию богатый арсенал от иронии до «черного юмора». Различие между двумя подходами можно проследить, приведя пример из «Крови поэта» Ж.Кокто (1930)[3]. Так, разбивание статуи в этой ленте не несет собственно разрушительного посыла, тогда как все разрушения в фильмах Шванкмайера сводятся к тотальному разрушению. Герою картины Кокто дан предостерегающий совет: «Разбивая статую, ты рискуешь превратиться в одну из них»—литературная абстракция, нуждающаяся в поэтическом прочтении. У Шванкмайера последовательному разрушению подвергаются изначально идентичные объекты, как, например, в «Мужественных играх» (1988), когда куклы-футболисты, которые играют на поле, представляют собой штампованные копии человека, сидящего перед телевизором.
Разного рода «снижения», изживание поэтического обнаруживаются даже в трактовке такого, казалось бы, с трудом поддающегося вариациям сюрреалистско-психоаналитического мотива, как подглядывание. В «Крови поэта» герой, оказавшись в «зазеркалье» перед рядом закрытых дверей, подсматривает в замочную скважину каждой комнаты. С подобным мотивом, правда, пока не осмысленным с точки зрения авангардных принципов, мы не единожды сталкиваемся у И.Трнки. Кадр с глазом сквозь замочную скважину возникает у него в «Соловье императора», а в картине «Архангел Гавриил и сеньора Гуса» (1964) происходит удвоение условности, и сквозь скважину уже виднеется глаз в прорези маски (то есть помимо скважины, выступающей в качестве «маски», вторая находится на лице самой куклы). Шванкмайер в «Тихой неделе в доме» (1969) иронизирует над психоаналитической составляющей сюрреализма с его подглядываниями. Обращаясь к эстетике даже не немого кино, но еще более ранней аттракционной изобразительности «волшебного фонаря», автор дополняет эту «псевдоархаику» дерганьем ленты, будто слетевшей с проекционного аппарата. Отсылкой к «волшебному фонарю» и игрой по правилам времени, предшествующего зарождению авангардной культуры, отчасти можно объяснить снижение традиционного принципа подглядывания. Снижение происходит с самого начала: герой вместо пространства грез или сна оказывается в некоем доме, где прежде всего деловито обустраивается, снимает одежду, вешает на гвоздик календарь, достает ручное сверло, которым затем будет просверливать в дверях внушительные дырки. Понятие о скважинах и ключах снимается вовсе. Глаз сквозь большую дырку в двери (видна даже бровь) гиперболизирует понимание зрелищности. Но в развитии снижающего эффекта автор идет дальше. В одной из комнат, наблюдаемой подобным образом, находится стол, а над ним—дыра в стене, идентичная просверленной, из которой высовывается и шевелится огромный язык. Такая перевернутая симметрия фактически приравнивает глаз... к языку.
Шванкмайер обнажает аттракционность, свойственную подглядываниям и не востребованную фрейдистским осмыслением, которая определяется еще и представлением о многократной повторяемости события, происходящего за закрытой дверью, когда «трюк» механически отыгрывается с самого начала специально для подсматривающего. Эта аттракционность внутреннего пространства разных комнат подчеркивается тем, что после каждого просмотра герой вычеркивает число из календаря и ложится спать, и новый день с новым наблюдением маркирован мелькающими ракордами, как следующая часть пленки.
Очередное снижение связано с желанием открыть дверь, возможностью или невозможностью познания. В «Крови поэта» появляется план двери с замком, который пытаются повернуть, а он не поддается. Шванкмайер в одной из своих ранних сюрреалистических лент—«Квартире» (1968) наделяет дверь ручкой, которая отваливается, если попытаться за нее дернуть. Этот же прием позже пройдет рефреном в полнометражной картине «Кое-что из “Алисы”» (1987). Стремление выдвинуть любой ящик оканчивается тем, что его ручка оказывается в руке девочки. Таким образом, к каждому ящику следует подбирать особый ключ, который с легкостью заменяет палец. Вообще массивные тактильные ключи встречаются практически во всех фильмах режиссера. Часто ключ «прячется» среди прочих бытовых предметов, как определенный невербальный знак поиска разгадки (столь частое повторение этого знака позволяет избегнуть узконаправленных фрейдистских трактовок).
В отличие от Кокто, вступающего в область сновидения, или даже Бунюэля в «Андалузском псе», который не отрицает и не настаивает на том, что имеет дело с объективной реальностью (он как бы отменяет объективные категории), Шванкмайер преобразует пространство, заданное им объективно, всячески подчеркивая его реальность, вещественность. Французская сюрреалистическая символика более эзотерична, чешская же работает в контексте четко выстроенной драматургии фильма, отличается большей конкретикой, несмотря на использование общих с французами мотивов. Фантазийное пространство Кокто носит декоративный характер, у Шванкмайера—пугает, отвращает, так как последний сюрреалистически преобразовывает объективную картину мира. Здесь коренится расхождение в похожем механизме с закрытыми дверями и тем, что за ними происходит. В пику поэтизированной области «зазеркалья» выдвигается пространство, наполненное тактильными вещами, то есть вещами с повышенной степенью реалистичности—реалистичности, достигшей предела выражения. У Кокто предмет-образ очищается от своего вещественного значения: «Кино гораздо легче, чем литература, способно акцентировать внешнюю, зримую сторону предмета, как бы оторвав ее от семантического наполнения последнего. Отсюда и мимикрия ряда сюрреалистических текстов под кинематограф»[4]. Шванкмайер, наоборот, гиперболизирует предметность, с тем чтобы, доведенная до абсурда, она вывела вещь в иное качество, в противовес предмету-образу ставя в центр как бы предмет-предмет. В этом присвоении вещи новой функциональности режиссер близок к дадаизму—подготовительной стадии сюрреализма.
Свойства, близкие к тактильности и связанной с ней коллажности, не раз отыгрывались в чешском искусстве. Так в кратком вступлении «Жемчужинок на дне» (1965) основным содержанием кадра становится фактурный коллаж: велосипедное колесо, испачканная маска, пара наклеенных этикеток на почти осязаемой стене—предметы, часто использовавшиеся в фотографических коллажах чешских сюрреалистов (особый упор здесь следует сделать на маске и велосипедном колесе). Идее того, что предметность позволяет вскрыть сверхреальность, находящуюся внутри реальности, особое внимание уделил И.Штырский[5]. О нем, авторе цветных коллажей, Ф.Шмейкал в статье «Сюрреализм и чешское искусство» напишет: «Наиболее убедительное доказательство того, что сверхреальность заключена непосредственно в реальности, предоставил Индржих Штырский в циклах своих фотографий “Мужчина с шорами на глазах”, “Человек-жаба” (1934) и “Парижский полдень” (1935). Его фотографии, вскрывающие фантоматичность повседневной реальности, были одновременно и отражением его внутреннего мира. Некоторые предметы, чаще всего возникающие на его снимках (протезы, гробы, аквариумы, корни, парикмахерские манекены и т.п.), для Штырского наделены особым символическим, а иногда и фетишистским смыслом, как о том свидетельствуют и его тексты, коллажи и картины»[6]. Фотография лучше сохраняет амбивалентность, позволяя соединить в изображаемом объекте «фантоматичность реальности» и «внутренний мир», в кинофильме подобная двойственность под воздействием драматургии рано или поздно склоняется либо к субъективному либо к объективному качеству.
Свехреальность, обнаруживая чрезмерной осязательностью предметов, выстраивает философию «Возможностей диалога» (1982), где коллажность одновременно выступает метафорой отношений (агрессивного диалога) и—главным образом, в первой новелле—общей моделью бытия (непрерывное измельчение продуктов, заполняющее весь экран). Буквальное понимание тактильности Шванкмайер расшифровывает в «Тихой неделе в доме». Уже упомянутому эпизоду, где проводится параллель между языком и глазом, автор дает развитие: язык выпадает из просверленной дыры, ползет в ящик и вылизывает грязную миску, то есть тактильность изображений, позволяющая «ощупывать» их взглядом (буквально, глазом), приравнивается режиссером к языку, который в тот же промежуток времени ощупывает все предметы. Дальнейшее обнажение приема приводит к некоему варианту самопародии. В «Конспираторах наслаждений» (1996) режиссер иронизирует над теми воздействиями, которые может оказывать на человека фактура предметов, доводя страсть к тактильным ощущениям до возведения фетишизма в абсолют.
Снижение патетического характера литературно-сюрреалистической образности также связано у Шванкмайера с мотивами тотального разрушения. В «Тихой неделе в доме» последнее разрушение есть разрушение самого дома, и если принять каждую комнату за отдельный отсек подсознания, то разрушение это производится особенно саркастически: в просверленные дырки герой вставляет динамит, который подсоединяет к будильнику, будившему его на протяжении всей недели. В картине «В подвал» (1983) пространство «подполья» (очередное снижение: вместо пространства сна—подвал), которое также может быть воспринято как модель подсознания, и вовсе затемнено, только один фонарик выхватывает фрагменты подвальных коммуникаций.
<…>
Шванкмайер развивает линию сюрреалистической игры с пространствами и, обозначив вначале несколько плоскостей, затем стирает между ними границу. Он может подчеркивать их родство по определенному признаку, как в «Мужественных играх», когда герой разгружает продукты в холодильник и накладывает себе еду: чрезмерная осязательность предметов, находящихся в безусловном пространстве, не уступает тактильности условных сюрреалистических образов, проходящих на экране телевизора. Разрушительное действо в телевизоре начинает выступать явлением того же порядка, что и внутреннее обустройство квартиры героя. В «Уроке Фауста» (1994) режиссер иллюзионистски помещает одно пространство внутрь другого: театральная сцена с картонным задником меняет местоположение и возникает на зеленой лужайке. Кстати, перенос вещей, которым в быту определено четкое местонахождение, в другой контекст (скажем, в фильме «Кое-что из “Алисы”» письменный стол оказывается в центре пустого поля) многократно облегчает задачу присвоения им нового сюрреалистического назначения. В той же «Алисе» есть и такой характерный для поэтики «сюра» эпизод: находясь в кукольном пространстве, Алиса открывает дверь, и окружающая ее вода выносит девочку на натуру, в иное пространство (уже появлявшееся в самом начале фильма) с другим соотношением условного и безусловного.
В «Мужественных играх» наиболее наглядно в буквальном, «вещественном» смысле происходит постепенное объединение пространств—футбольного поля, по которому передвигаются картонные марионетки-футболисты, уничтожаемых на экране объемных кукол, черно-белого пространства хроники, запечатлевшей людей на трибуне, и «продуктового» мира в квартире героя. Вначале плоскостной картонный мяч, участвующий в игре, через окно залетает в квартиру, попутно преобразовавшись в настоящий мяч с выделяющейся фактурой. На экране телевизора в это время тоже пересекается граница пространств: люди из хроники лезут с трибун на поле. Уничтожение объемных пластилиновых футболистов бытовыми вещами продолжается затем в доме обывателя, не реагирующего на происходящее. Хотя здесь есть разница: в квартире героя вынесена другая степень условности, и уничтожение в таком пространстве смотрится более устрашающе и реально. Сходным образом решается проблема совмещения пространств и в «Уроке Фауста», где кукла с документально запечатленной улицы переходит на театральную авансцену. Вступая в отношения с живыми людьми после общения с марионетками, она переходит с одного уровня условности на другой (сам облик Фауста трансформируется, пытаясь внутри себя соединить условные и безусловные черты).
Затронув проблему разных уровней условности, необходимо остановиться на ней более подробно. Чаще прочего работа режиссера с ними строится в двух системах координат: на соотношении плоского с объемным и живого с неживым. К слову сказать, широкое ответвление сюрреализма связано с метаморфозами, касающимися перехода живого в неживое, твердого в мягкое и т.д. В чешской анимации в русле мельесовской аттракционности имел дело с плоским и объемным Карел Земан, виртуозно разработавший технику, которая позволяла сочетать элементы рисованного и кукольного кино (другими словами плоские и объемные изображения). В картине «Хроника шута» (1964), где по сравнению с более ранним его фильмом «Барон Мюнхгаузен» (1961) монтаж-сопоставление плоского с объемным становится интереснее соединения этих элементов внутри одного кадра, режиссер более близок к эстетике игрового художественного кино с его пространственным разделением. Это разъятие обозначено взаимодействием областей: герои, находясь в уплощенном полотне гравюры, в таком контексте становятся «марионетками», обращающимися к девушкам, которые в трехмерном, безусловном пространстве стирают в реке белье.
Сменой уровней условности активно пользуется и другой «отец» национальной анимационной традиции Иржи Трнка. В фильме «Архангел Гавриил и сеньора Гуса» условность обнаруживается с первого же кадра, в котором появляется нарисованный занавес, а за ним фигурки, изготовленные в технике плоской марионетки, разыгрывают комическую сценку. Когда после такой интермедии в по-иному организованном объемном кукольном пространстве с пола под звон колокола поднимается фигура, она воспринимается практически как живой актер внутри игрового фильма.
Похожим образом в «Мужественных играх» сменяется уровень условности от плоских картонных фигурок футболистов к объемным изображениям, внешний облик которых составлен из разнофактурных частей (что тоже есть разная степень условности): пластилиновое лицо со стеклянными глазами, а также волосами и вставной челюстью, копирующими природную фактуру.
Сочетанием условного и безусловного внутри одного плана, исходя из принципа коллажности кадра, пользуется как сюрреалистическая школа в лице Шванкмайера и его последователей, так и предшествовавшая ей анимация «иллюзионистского» направления. В «Руке» (1965) Трнки настоящая рука, меняющая цвет перчаток в зависимости от своих намерений, разрушает игрушечный мир условной куклы. «Барон Мюнхгаузен» целиком строится на соединении плоскостного фона (чем является корабль, путешествующий в космических просторах) и объемного предмета (выброшенный скафандр трехмерен). Или же на плоский корабль актер смотрит через руки, сложенные в виде подзорной трубы. Или в рисованной театрализованной декорации с людьми, которые внутри нее становятся условными, на ближнем плане появляется настоящая утка, плавающая в воде.
<…>
Автономное существование «части, заменяющей целое» становится одной из важнейших особенностей сюрреалистической поэтики. Учитывая, в общем, мрачную тональность чешского кино и нередко прямое и косвенное цитирование Босха—во время разговора о машине, способной сжигать большое число людей, герой «Сжигателя трупов» стоит на фоне стены с репродукцией «Сада земных наслаждений»,—приходишь к мысли о том, что эстетика этого художника, если взглянуть на нее сквозь призму сюрреализма, могла послужить дополнительным толчком к буквальному воплощению идеи независимого существования частей тела. Образность, заключенная в изображении двух гипертрофированных ушей с ножом между ними (на полотне «Сада земных наслаждений»), вписывается и в русло авангардных течений, и в область сравнительно «традиционного» кино (например, в картине «Ухо» К.Кахини, 1970—о некоем «кафкианском» прослушивании, вырастающем практически до вселенского масштаба—незримое «ухо» становится образом «всевидящего ока» власти).
Косвенная отсылка к Босху «вычитывается» у Шванкмайера в «Маятнике, яме и надежде» (1983, по новелле Э.А.По), где внутри подземелья инквизиции движется механическая стена, на которой изображены страшные чудовища с горящими огоньками в прорезях глаз и «истязаемыми» фигурками людей во рту. В этой же картине эстетика «части, заменяющей целое» играет философскими обертонами: нам ни разу не показывают лица осужденного, даны лишь субъективные планы его рук, ног, привязанного туловища. Метод Шванкмайера совпадает со взглядом По. В упоре писателя на то, что чувственное восприятие не в состоянии донести полноценную информацию об объекте, возникает представление о части (скажем, при воспоминании о судьях в сознании всплывают лишь их губы: «Я видел губы судей»)—иллюзии, принимая которую за истину, герой выстраивает пространство вокруг себя. Он часто говорит о своем теле в «третьем лице»: «мои руки наткнулись» или «мой подбородок касался пола камеры, но губы и верхняя половина головы как бы повисли в воздухе»[10]. Всего один шаг остается до экзистенции. Э.А.По сохраняет веру в разум, в последний момент спасающий героя от гибели. Стоит утратить разумную опору, и упоминание «рук» или «подбородка» наполнится экзистенциальным ужасом (подобное состояние описано Сартром в «Стене», когда один из заключенных, ощутивший его, начинает остраненно воспринимать части своего тела). Герой в экзистенциальной интерпретации Шванкмайера представляет собой подобные разъятые «части».
К слову, в полистилистичности режиссера можно все же попытаться по характеру мировоззрения условно выделить два направления, воспользовавшись сравнением с литературой. Говоря о периоде короткометражного кино (в полнометражном Шванкмайер, скорее, суммирует найденное в более ранних экспериментах), отметим колебание от традиции экзистенции до аттракционности. Если первая с ее мрачной метафизической атмосферой ближе к эстетике По и, в особенности, Кафки, то вторая нередко имеет пересечения с яркой образностью Кэрролла. В те или иные периоды творчества режиссер тяготеет в сторону того или иного «направления», однако, чаще всего он их смешивает, даже в рамках экранизаций самих Э.А.По и Л.Кэрролла.
В абсолютно «кафкианской» же картине «Квартира» (1968), где комната действует в согласии с постоянно меняющимися законами, которые нужно отгадывать, Шванкмайер оставляет зрителю подсказку. Когда герой разбивает дверь топором и оказывается перед стеной с написанными на ней именами, он берет в руки висящий рядом карандаш и отчетливо выводит «Josef». Помимо того Кафка с его «порнографическими картинками» не единожды отыгрывается у чехов. В «Сжигателе трупов» официальная бумага монтируется с коллажем из такого рода изображений, герой «Конспираторов наслаждений» изготавливает маску-макет петушиной головы, обклеенную с изнанки журнальными эротическими фотографиями. Или в той же «Квартире» на стене находятся две фотографии, одна из которых повешена криво: на первой изображена группа людей, на другой—обнаженная женщина, и если пытаться выровнить одну из них, вторая начинает перекашиваться.
Из дискретного характера пространства с «частями, заменяющими целое» проистекает нехватка панорам, позволяющих в несколько секунд охватить широкий объем, внутри которого затем предстоит ориентироваться. Позволим себе выдвинуть смелое предположение: зачастую ограниченное в ширине, пространство стремится набрать высоту. Быть может, по этой причине чаще других взглядов в чешском кино мы отмечаем взгляд «вертикальный». В эпизоде из земановского «Барона Мюнхгаузена» долго держится вертикальная панорама: начав от земли, камера поднимается к космическим просторам, останавливаясь на каждом уровне атмосферы, а затем двигаясь выше (от лягушки—к бабочкам, от бабочек—к дельтаплану, от дельтаплана—к лебедям и т.п.). Разумеется, в этом фильме такой взгляд обладает исключительно трюковой природой, но, восприняв описанный эпизод символически, начинаешь замечать, что вертикальное «панорамирование» внутри эстетики неидентифицируемого пространства работает весьма действенно.
У Шванкмайера это выражается в том, что нередко зритель впервые знакомится с героем, когда камера поднимается от его ботинок до лица (не менее часто персонаж к тому же дается со спины). Но случаются и более возвышенные трактовки: так, в картине «И.С.Бах: фантазия соль-минор» взгляд поднимается вверх по выщербленной стене и выступающим кранам. Или пример не слишком заметного в общем контексте, но характерного для режиссера плана: в «Последнем трюке пана Шварцевальда и пана Эдгара» (1964) кукла приподнимает свою шляпу и вынимает из-под нее игрушечную деревянную рыбу. Постепенно окидывая рыбу во весь ее «рост», камера формирует представление о ней. Затем кукла подбрасывает игрушку, и та летит вниз, и опять происходит движение по вертикали, только теперь при статичной камере движется сама рыба.
Коллажность построений отличает не только внутрикадровое пространство. Не менее сложная функция связана с коллажами, складывающимися на пересечении кадров (условно обозначим их как «межкадровые»). Такие «межкадровые» коллажи, которые перебивками нескольких суперкоротких планов вклиниваются в повествование, появляются у Шванкмайера, начиная с самого первого его фильма («Последний трюк пана Шварцевальда и пана Эдгара»). Часто они восстанавливают пофазово раздробленное движение: реакцию героя («Квартира») режиссер передает через смену нескольких гримас с пропущенными между ними фазами, создающими условный, «механический» эффект. В другой раз в том же фильме он дает одно движение в многократном повторе: из дыры в стене выскакивает кулак на пружине, и быстрая череда планов своей «технической» природой осуществляет насилие над зрительским восприятием. Или, когда из открытого шкафа неожиданно выпрыгивают собаки и бросаются к несъеденному обеду, стремительное чередование фрагментов их туловища в сочетании с хаотическим колебанием камеры моментально дезориентирует в пространстве.
<…>
Еще одной особенностью коллажной структуры выступает то, что она позволяет режиссеруосуществлять разнообразные способы трансформации предметов: в «Квартире» в череде коротких, взаимоподобных кадров ложка превращается в ложку с дырками, пивная кружка претерпевает изменения от графина до стопки и т.д. В ходе процессов трансформации «внутрикадровая» и «межкадровая» коллажность работают равноправно. Иное соотношение способов коллажирования действует в «Маргаритках». Здесь играет роль разная степень детализации: когда кадр тонирован и все его элементы равномерно ярки, то план, тонированный другим цветом, будет принципиально дифференцирован от предыдущего—коллаж «уходит» в межкадровое пространство, когда же цвета соединены внутри театрализованной декорации, подобное сочетание может быть соотнесено с художественным полотном.
Внутрикадровая коллажность фильма Хитиловой в эпизоде с отрезанной головой, повисшей в воздухе, задействует иллюзионистскую эстетику Мельеса. Дальнейшее разъятие, когда девушки перемешивают фрагменты «разрезанного» ими пространства, соответствует, скорее, традициям чешского кубизма. Кадр делится на квадратики, находящиеся в хаотичном движении, и превращается в кубистический коллаж. Кубизм начинался с геометризации форм, подчеркивающих предметность, чтобы в следующей его стадии объект дробился, раскладывался на составные элементы. «Кубистические» кадры «Маргариток» частично лежат в русле этого авангардного направления, не менее мощно развернувшегося в Чехии, нежели сюрреалистическое, частично же могут быть соотнесены с описанным выше анимационно-трюковым принципом подвижности отдельных фрагментов картины, которым пользуется и Шванкмайер. В его «Джаббервоках» коллажи из переставленных кубиков выполняют функцию «отбивки» между эпизодами.
Но нас заинтересует другая черта эстетики кубизма, получившая более серьезное развитие в кинематографе чешской «новой волны». Еще раз вспомним эпизод на титрах «Маргариток», где план крутящихся колес прерывается короткими вклейками взрывов. После каждой новой вклейки дистанция между зрителем и фрагментом механизма сокращается. Эти остраненные планы включены в общее пространство разъятыми и равноправными. Изображение деталей механизма и, в частности, зубчатых колес встанет в один ряд с важнейшими лейтмотивами чешского кино 60-х. Кубисты нередко изображали людей с очертаниями, похожими на механизмы, найдя отражение идее индустриального города и проявляя восхищение машинной цивилизацией, черты которой проникли во многие художественные направления искусства. Столь частое воспроизведение зубчатых колес и их деталей в фильмах чешской «новой волны» следует искать, вероятно, не в символике колеса и круга или рассматривать их в качестве образного воплощения артикуляционного аппарата, как это делает М.Ямпольский применительно к французскому авангарду[11].
Выдвинем предположение о том, что появление в картинах планов с действующими механизмами, с одной стороны, знаменует новый виток авангардного искусства, прибегнувшего к кинематографической эстетике, с другой, является отражением пессимистической картины мира, которым управляют безликие вертящиеся шестеренки. В трактовке разных художников этот образ склоняется в большей степени либо к первому, либо ко второму характеру отношений. Скажем, И.Барта, как наиболее близкий к современности режиссер, в своем «Крысолове» лишает механистичность ее авангардной составляющей и оставляет только ощущение депрессивного подавления. Город просыпается: движутся колесики на часах, игрушки бьют молоточками, строгают и пилят, шестеренки трутся, экспрессивная искаженность кукол и декорации заполняется скрежещущими звуками. Тему механики в пессимистическом ключе развивал и Иржи Трнка. Со вторжения механической руки в уютный мир персонажей «Кибернетической бабушки» (1962) начинается их знакомство с мертвым индустриальным пространством, совершенным «кибернетическими» устройствами, среди которых в угрожающей тишине они вынуждены будут блуждать. Даже в позитивном, заряженном оптимизмом кинематографе Земана механизмы отыграются—правда, более всего автор задействует их трюковые особенности. В «Бароне Мюнхгаузене» стоит нажать на ступеньку рядом с троном, как путь преграждают выдвинувшиеся копья. Секрет прост: под сидением действует механическое устройство с шестеренками.
У Шванкмайера колесные механизмы возникают и как элемент, поддерживающий напряжение в завязке фильма (как фрагмент устройства велосипеда в начале «Костницы», 1970), но чаще они связаны с функцией разрушения. В «Маятнике, яме и надежде» планы механизмов и сопровождающие их звуки играют центральную роль: только отыскав слабое место в организации машины, уничтожающей по инерции, можно остановить ее ход. В «Гробиках» механизмы заставляют дергаться части тела плоских марионеток. Разнообразие зубчатых колес формирует образ механизма, приводящего кукол в движение, учитывая, что подобное устройство также связано с мотивом разрушения. К этому близка трактовка Ю.Лотмана, который в статье «Куклы в системе культуры»[12] отмечает, что появление машины со времен Ренессанса породило новую метафору сознания, и заводные куклы сделались «образом мертвого движения».
Помимо машинных механизмов Шванкмайера занимают механизмы первотворения человека. Уже в самом названии фильма «Тьма, свет, тьма» (1989) дается намек на акт демиургии. Человек «собирается» из разнофактурных элементов: от пластилиновых частей тела до тактильного языка и подлинной челюсти. Мотив «вставного мозга», внесенного в модель в последнюю очередь, благодаря чему ее действия обретают осмысленный характер, можно поставить в параллель к более раннему и почти сюрреалистическому образу «человека без мозга». По свидетельству исследователя А.Дуфека, в группе работ фотографа Й.Судека такой образ был проведен последовательно: так, например, «Гипсовая голова» (1945) предстает собой фотографию «скульптурного бюста с разбитой головой, набитой бумагой»[13]. Отсылку к фотоавангарду дополним отмеченным нами наблюдением о том, что в ряде работ (преимущественно 40-х годов) мастера-сюрреалисты в качестве реквизита используют стеклянные глаза.
Вставные стеклянные глаза и вставная челюсть—реквизит, пользующийся у Шванкмайера чуть меньшей популярностью по сравнению с тактильным языком. Целостность плоскостного изображения часто разрушают «безусловный» язык или зубы: портрет нередко «издевается», показав зрителю отвращающе жизнеподобный язык. Или в «Конце сталинизма в Чехии» вставные объемные глаза возникают на плоскостном изображении Фучика, а бюст Сталина, до того смотревшийся монолитным, обнажает зубы. «Тьма, свет, тьма», оттолкнувшись от апелляции к мотиву «сюра», где части тела могут существовать сепаратно, заново собирает их вместе, как бы выдвигая, таким образом, положение о том, что человек—это некая «конвенция», которую его фрагменты «подписывают» между собой. Модель огромного человека, несоразмерная маленькой комнате, в которой она была выстроена, скрючивается в положении младенца в утробе.
Сообразно мотиву творения крик младенца Шванкмайер, в основном, накладывает контрапунктом. Чаще это не имеет прямого отношения к фабуле, но иногда связывается с изображением в стремлении придать ему саркастическую окраску. Так в «Конце сталинизма в Чехии» препарируется гипсовый бюст Сталина: внутри он оказывается состоящим из «жизнеподобной» фактуры, покопавшись в которой, руки вынимают бюст Готвальда и перевязывают ему пуповину. Метафорически-саркастическая трактовка образа Готвальда как новорожденного, но новорожденного «от головы» Сталина, дополняется закадровым младенческим криком.
<…>
Кукла и ее содержимое
В Чехии, стране с трехвековыми традициями народного кукольного театра, при обращении к объемной анимации на сцену так или иначе выносится целый культурный пласт. Дань национальным традициям Шванкмайер отдает в фильме «Урок Фауста», в диалоги которого режиссером вводятся реплики из пьес народных кукольников, и одним из действующих лиц автор назначает Кашпарека[15]. Для того чтобы осознать динамику образов, нужно коротко остановиться на мифологии куклы.
Лотман отмечает, что «специфика куклы как произведения искусства (в привычной нам системе культуры) заключается в том, что она воспринимается в отношении к живому человеку, а кукольный театр—на фоне театра живых актеров. Поэтому, если живой актер играет человека, то кукла на сцене играет актера. Она становится изображением изображения»[16]. Это точное наблюдение некоторыми своими аспектами может быть соотнесено с кукольной анимацией (Лотман оговаривается, что изучение кукольной природы в мультипликационном кинематографе требует отдельного исследования), но оно ее не исчерпывает. Скажем, подобная поэтикаудвоения действенна в некоторых фильмах Трнки, где пародируются определенные актерские и сюжетные штампы. Так в «Арии прерий» (1949) куклы с застывшими на лице гримасами играют свои роли в контексте пародии на американский вестерн и его персонажей, или же в «Архангеле Гаврииле и сеньоре Гусе» автор иронизирует над мифологическим обликом романтической героини, шаржируя «благонамеренную» внешность сеньоры со смиренно прикрытыми веками.
Но более всего в этом плане чешское искусство имеет дело с разными человеческими психотипами. Достаточно вспомнить популярные в стране спектакли со Спейблом и Гурвинеком или сериал Земана о господине Прокоуке, чтобы отметить собирательную природу куклы, которая позволяет воплотить в себе отдельный психологический типаж. Если актеру игрового кино для осуществления подобной задачи сложно обойтись без вступительных приготовлений и предварительного «сообщения» зрителю о вносимом элементе условности, то особенность кукол можно сравнить, как это делает Трнка, с типичностью древнегреческих масок: «Игра кукол должна быть более типичной, чем может быть игра актера, и воспроизводят куклы идеи человека, а не его внешность»[17]. То есть на место лотмановской «поэтики удвоения» (кукла, играющая актера, играющего роль, есть изображение изображения) приходит собирательный образ, основополагающие черты которого перенесены с характера на внешний облик игрушечного персонажа. Когда речь ведется об обобщенной картине действительности, выраженной средствами анимации, предложенная Лотманом модель перестает действовать.
Но даже в отношении «Архангела Гавриила» отмеченный нами элемент пародийности справедлив лишь отчасти. Первый же кадр в детально воссозданной декорации церкви, в сравнении с предшествующим ему условным комическим вступлением, отменяет «игрушечность» объемных персонажей. Однако в сюрреалистической трактовке действуют иные закономерности.
В исторической перспективе чешского кукольного театра заложено два основных художественных течения: первое—натуралистическое, идущее от творчества народных мастеров. Главной задачей его сторонников становится преодоление искусственности материала, одушевление деревянных кукол и создание иллюзии театра живых артистов. В противовес натуралистическому течению целый ряд руководителей кукольного театра поддерживает направление стилизаторское, когда лица и фигуры марионеток художественно искажаются. В управлении их движением стремятся выделять кукольную природу, достигая таким образом наибольшей степени выразительности.
В своих полнометражных работах, например, «Старинных чешских сказаниях» (1953), Трнка наделяет стилизованные фигуры и лица кукол индивидуальным характером. Этот характер сохраняется, даже сочетаясь с подчеркнутой кукольностью, условностью игрушечных персонажей, как, скажем, в «Соловье императора». Но происходит деформация в том случае, когда утрированную стилизованность Трнка превращает в некую «оболваненность». Такую «оболваненность» и воспринимает Шванкмайер, начиная еще с фильма «Последний трюк пана Шварцевальда и пана Эдгара», где выражение кукольного лица подчеркивает внутреннюю пустоту головы из папье-маше, временами заполняемую коллажем из вертящихся механизмов.
Режиссер развивает тему механизмов, близкую Трнке, приближая их организацию к абсурдной: в «Последнем трюке» можно отыскать несколько пересечений с «Веселым цирком». В рисованной картине Трнки есть эпизод, когда клоун с «геометрическим» лицом вначале приподнимает шляпу, затем извлекает из клетки рыбу и подбрасывает ее на канат, где та выделывает пируэты, катается на велосипеде и прочее. По окончании трюка рыба прыгает обратно к клоуну. Характер и последовательность действий в фильме Шванкмайера походят на описанные: у него пан достает из шляпы деревянную рыбу, открывает голову, в которой виднеются механизмы, и отправляет игрушку внутрь. Что касается пируэтов, то в другом аттракционе их выполнит собака. Помимо этого эпизода у Шванкмайера отыграется финал «Веселого цирка» с его разрушением трюковой организации. Ближе к окончанию картины Трнки выступающий на арене медведь начнет увеличивать скорость игры на нескольких музыкальных инструментах, и когда из механизма выпадет одна маленькая деталь (шарик, который бьет в барабан), вся конструкция развалится, сопровождаемая безразличными аплодисментами зрителей. В параллель этому эпизоду Шванкмайер, соединивший разную фактуру и разные уровни условности, доведет торжество абсурдности до логичного завершения. Одновременное управление музыкальными инструментами, выдвинувшимися из частей тела пана Эдгара (из головы—труба, из ушей—тарелки, в руках—скрипки, нога бьет в барабан и т.д.), рождает звуковую какофонию, а подмена частей тела инструментами превращает играющего в коллаж. Затем последует абсолютная и окончательная деструкция.
<…>
В сюрреалистической поэтике вещами зачастую утрачиваются их природные свойства и перенимаются функции других вещей. Для примера можно привести коллаж И.Гейслера[18] «Грабли» (1943), в котором у изображенного предмета на месте зубцов находятся зажженные свечи. Бытовая вещь перенимает иную роль, как символическую (отчетливая траурная символика), так и геометрическую (предмет, существующий в пространстве, ввиду непривычности соединения распадается на геометрические линии: линия-рукоятка перпендикулярно верхней части, перенимающей функцию подсвечника). У Шванкмайера использование вещи не по назначению, помимо противопоставления фактур, действует в плане философского осмысления. В «Маятнике, яме и надежде» мешок с крупой подменяет песочные часы, отмеряющие время жизни героя, одновременно участвуя в организации разрушительного механизма.
Перечислим еще несколько примеров переноса функции с одного предмета на другой, с тем чтобы отметить широту разброса: в «Последнем трюке» в ходе аттракциона голова пана Шварцевальда играет роль футляра, изнутри оклеенного коллажем, в фильме «Тьма, свет, тьма» два соединенных уха играют роль бабочки. В картине «В подвал» «пирожки» лепятся из смеси яиц с угольной пылью, причем чувство абсурда коренится не столько в противоречии двух фактур, сколько в приложении к такой фактуре бытовых действий, в других случаях воспринимаемых зрителем автоматически.
Помимо замены функции предмета (например, ботинок как собака, что сопровождается гавканьем и прочими особенностями поведения животного), случается его оживление, когда бывает невозможно определить, сама ли вещь осуществляет действие или его производит некто, кого мы не видим. Исчезающая из лукошка картошка («В подвал») сама карабкается по стене обратно в ящик. Если наделение неживого предмета особенностями органической материи активно используется для концентрации шоково-отвращающих эффектов (нередко, когда из бутафорской спины, как в «Сжигателе трупов» Ю.Херца, или деревянной руки шванкмайеровского Фауста льется настоящая кровь), то подмена одушевленного искусственным в метафизическом плане более драматична. Так, в «Смерти пана Бальтазара» валяющийся мотоцикл, словно тело погибшего пана, закрывают тряпкой.
Но в той же новелле Менцеля мелькает один любопытный образ: в кадре возникает спецформа, аккуратно разложенная на полотнище, белый цвет которого подчеркивает ее пустоту. Этот мотив—мотив костюма без человека— фигурирует как на сюрреалистических фотографиях, так и в фильмах Шванкмайера. Хотя еще у Бунюэля в «Золотом веке» (1930) была предпосылка к замене человека платьем, которое тащили на вешалке таким образом, что край его волочится по полу, будто бы оно двигалось самостоятельно, Шванкмайер расширяет границы «деятельности» пустого костюма. В «Тихой неделе в доме» в одной из комнат на вешалке на фоне белой стены располагается костюм, из которого выползает шланг и тянется к банке с цветами. Высасывая из нее всю воду (цветы моментально засыхают и самовозгораются), шланг ползет обратно, и в итоге костюм «испражняется» на пол. Причем наибольшее неудобство порождает верхний ракурс, то есть наблюдение с той позиции, где должна находиться отсутствующая голова. В противовес вызывающей аттракционности этого эпизода образность пустой одежды, когда она, сохраняя свою неподвижность, является единственным содержимым аскетичного кадра, гораздо более глубока.
На фотоизображении М.Гака «Во дворе» (1942), считающемся одним из наиболее выразительных воплощений войны, в углу, замыкающем пространство обшарпанной стены, вставлен держатель, за который цепляется вешалка с женским платьем на ней. Драматизм композиции поддерживает то обстоятельство, что вешалка крепится на металлической цепочке, натянутой на держателе, и эта цепочка прогибается, создавая ощущение зыбкости положения платья.
Неподвижному костюму, вытеснившему свое наполнение, Шванкмайер предпочитает костюм одушевленный, от наполнения отказавшийся. Сравнимо с моделью творения человека режиссером обнаруживается модель «творения» костюма («Джаббервоки»): внутри шкафа находится таз с закипающей водой, откуда на вешалку выпрыгивает матросский костюм, а затем и соломенная шляпа. В ходе действий костюма вешалка вертится, подменяя «голову». Костюм, прыгающий среди кукол по комнате и размахивающий шляпой, или же выпускающий из рукавов роту игрушечных солдатиков, лишь косвенно связан с подобным окружением, являясь образом иного порядка.
<…>
Разнообразие фактур чешских игрушек заложено в них народной традицией: игрушки изготовлялись кустарно из дерева, глины и даже из теста, причем господствовало семейное производство, в котором старший член семьи распределял труд между родными. Связывая тему игрушки и родственной ей куклы с вопросами кукольного театра, оговоримся, что в Чехии наиболее распространены две его разновидности: loutkové divadlo, в котором куклы приводятся в движение с помощью ниток, и так называемое bramborové divadlo— театр фантошей, которые надеваются на руку и приводятся в движение с помощью пальцев. Последняя разновидность наиболее стойка в среде народ-ных кукольников[20].
Введение в картину кукольной традиции другой страны предполагает либо адаптацию этой традиции, либо изъятие куклы из близкого ей контекста. В фильме Шванкмайера «Гробики» (другое название «Панч и Джуди») несмотря на принадлежность самих персонажей иной национальной культуре (отметим, однако, что автор использует старую игрушку—она словно бы вышла в тираж, и больше не является чьей-либо конкретной принадлежностью), сюжет фильма сформирован на пересечении традиции английских представлений с участием знаменитой пары—Панча и его жены Джуди, и особенностей чешского кукольного театра.
Этнограф и фольклорист П.Богатырев вспоминает увиденный на ярмарке спектакль, разыгранный народным кукольником на bramborovém divadle[21]. Краткий его пересказ таков. На сцену выходит Кашпарек и жид. Кашпарек вступает в драку с жидом, убивает его и прячет в гроб. Выходит жена, пришедшая оплакивать мужа. Кашпарек убивает и ее и тоже прячет в гроб. Появляется черт. Он приносит виселицу и приказывает Кашпареку просунуть голову в петлю. Тот просит черта научить его этому. Черт надевает петлю на свою голову, а Кашпарек затягивает и бросает черта в тот же гроб. В конце представления Кашпарек со своим приятелем подбрасывают вверх живую мышь (которая все время представления сидит сбоку рампы) и на лету ловят ее. (Затем хозяйка театра обходит с блюдечком публику, и то же представление начинается заново.) В сюжете «Гробиков» находит отражение совмещение живого и неживого (в спектакле участвует морская свинка). В свою очередь «черный юмор» и садистские выходки Панча в английском театре, которым вполне отвечает выяснение семейных отношений посредством палок или колотушек, «подсказывают» Шванкмайеру образ взаимного уничтожения: две перчаточные куклы избивают друг друга колотушками, пытаясь умертвить противника и уложить его в гроб, из которого тот постоянно выбирается.
Чешской кустарности противоположна традиция французской куклы, которая до начала XIX века была тесно связана с жизнью аристократии, так как стоили игрушки дорого, производились на заказ, но зато для каждой разрабатывался индивидуальный характер. По утверждению А.Оршанского[22], старинные французские куклы («дозаводского» периода) по праву могли считаться произведениями художественного прикладного искусства. Получается, что когда Шванкмайер вводит в кинотекст изысканную фарфоровую куклу, изготовленную «во французских традициях», это обстоятельство, входящее в противоречие с традициями национальной игрушки, позволяет резко акцентировать внимание на нужном ему аспекте. А аспект этот, как правило, связан с приравниванием живой материи к неживой. Например, в фильме «Кое-что из “Алисы”» девочка, уже с первой сцены одетая, как кукла, кидает камешки в воду. В другом кадре ситуация зеркально повторяется: камешек падает в чашку с чаем, но здесь камера обнаруживает в кадре куклу—в том же платье и тоже с книгой на коленях.
И здесь мы подходим к важной особенности игрушечного облика—особенности, которая в сюрреалистическом плане будет отыгрываться у Шванкмайера. Разглядывая старинную французскую куклу (с модели которой в XX веке стали лепить довольно бледные фарфоровые поделки), замечаешь, что замершее мгновение движения, как свернутая пружина, находится в ее лице.
<…>
Традиция аристократической французской куклы дает Шванкмайеру возможность обыграть особенности ее организации. В фильме «Кое-что из “Алисы”» девочка постоянно трансформируется в
куклу и обратно, но идею о присутствии внутри игрушки чего-то иного косвенно подтверждает сам режиссер, когда живая Алиса оказывается заключенной внутри гипсовой болванки. Устройство внешнего кокона копирует описанное выше устройство игрушки: прорези для глаз воспринимаются как маска, вокруг них так же подрисованы реснички и брови, более естественную фактуру вносят волосы, а маленький приоткрытый рот с виднеющимися искусственными зубами довершает характеристику. Но тот факт, что живая девочка, запертая внутри огромной оболочки, сама легко поддается видоизменениям и может уменьшаться до кукольного обличия, организует принцип «матрешки». По сути, совершается бесконечная проекция кукол: внутри болванки—живая девочка, время от времени сама превращающаяся в куклу, то есть по размеру эти три «игрушки» вполне могут уместиться друг в друге, к тому же все Алисы одеты в одинаковые платья.
Когда у Трнки в «Архангеле Гаврииле» кукла надевает маску, происходит удвоение условности, но прием не ощущается, поскольку исчерпывается сатирическим эффектом. Шванкмайер же устрашает. Структура «матрешки» («Урок Фауста») на глазах зрителя организует Мефистофеля, мгновенно наращивая три уровня условности: пластилиновый Мефистофель со вставными стеклянными глазами принимает облик живого Фауста и тут же надевает на себя деревянную голову марионетки-черта. «Заключение» сопровождает желание немедленно высвободиться. Вначале сквозь платье на гипсовой болванке прорывается палец, затем «скорлупа» разрушается и Алиса выбирается на волю[23].
Разбирая типы исходных отношений к тексту у статуи и куклы, Ю.Лотман говорит о том, что если роль статуи заключается в донесении до аудитории информации, то во втором случае аудитория выступает уже как участник игры, и информация вырабатывается в ходе этого процесса. Поэтому разница между семантикой статуи у Кокто («Кровь поэта») и семантикой куклы у Шванкмайера лежит в апелляции к различным типам восприятия художественного произведения. Ожившая статуя у Кокто обращает к поэтической изысканности искусства, шванкмайеровские куклы играют с оттенками смеховой, народной культуры.
Но, главным образом, нас заинтересует следующее положение статьи Лотмана. «Чувство неестественности прерывистых и скачкообразных движений возникает именно при взгляде на заводную куклу или марионетку, в то время как неподвижная кукла, чье движение мы себе представляем, такого чувства не вызывает. Особенно наглядно это в отношении к выражению лица: неподвижная кукла не поражает нас неподвижностью своих черт, но стоит привести ее в движение внутренним механизмом—и лицо ее как бы застывает»[24]. C утверждением можно поспорить на основании разности фактур тех материалов, из которых состоит кукла, в чьем противоречии коренится элемент движения, заложенного в ее неподвижности. Но эта особенность действует в полной мере в том случае, когда лицо игрушки максимально очеловечено, а не утрировано, к тому же бледно и аристократично, что плотнее соотносится с образом двойника. Лотман связывает мотивы машинной цивилизации и двойничества с механической куклой, в то время как не менее сильный эффект производит игрушка антропоморфная и неподвижная, если она помещена в контекст сюрреализма и движение подразумевается ее обликом. Взаимосвязь между куклой неподвижной и механической, между перчаточной куклой и марионеткой сложнее.
<…>
Сохраняя тягу к разным фактурам, режиссер зачастую сочетает два полюса «игрушечной» мифологии—куклу фарфоровую и механическую. Если в кролике только прослеживаются отдельные черты механистичности, то заводной заяц сохраняет все ее атрибуты. Рядом действует фарфоровая Алиса—живой человек, заключенный в кукольную основу (независимо от того, уменьшена ли Алиса до размеров куклы или находится внутри гипсовой скорлупы), и Шляпник—образ марионетки без источника управления. Марионетка, потерявшая своего невропаcта, становится в некотором роде «безумной». Именно это качество, претворенное в облике Шляпника, в полной мере отвечает требованиям его образной характеристики.
Взаимодействие кукол, каждая из которых несет разную функцию, возможность соединения машины и игрушки вызывает ощущение неопределенности в отношении их подлинного содержания, поддерживает «детский» интерес к тому, «что внутри». Нередко Шванкмайер реализует такую заинтересованность буквально, когда в «Естественной истории» в окружении нарисованных рыб располагается рыбий скелет или когда автор совмещает сразу три воплощения обезьян—рисованные картинки монтируются с мордами животных и их скелетом. Если здесь режиссер сравнивает внешнее обличие существ с внутренним обликом, придерживаясь логики, то чаще он будет обманывать ожидания, создавая представление о чем-то ином, неизвестном, которое располагается внутри. В начале «Последнего трюка пана Шварцевальда и пана Эдгара» актеры сидят в костюмах, держа еще неодетые головы своих персонажей. В ходе действия они станут иллюзионистски открывать головы, каждый раз наделяя их различными функциями, однако актер внутри не обнаружится ни разу. За обманутыми ожиданиями может следовать метафора, как если внутри препарированного бюста Сталина оказывается бюст Готвальда («Конец сталинизма в Чехии»).
Наиболее полно проблему «содержимого» куклы режиссер отыграет в картине «Кое-что из “Алисы”». Чучело кролика оживает, сохранив вставные глаза и наполнение из опилок. Кролик на протяжении фильма постоянно напоминает зрителю, из чего он состоит. Опилки сыплются из его порванной шкурки, как песчинки из песочных часов. Подобная метафора косвенно подтверждается наличием часов, которые он постоянно достает изнутри себя и сверяет по ним время.
<…>
К саморазрушению у Шванкмайера склонна и органическая материя, которая обнаруживает свою искусственную основу. В заключении «Гибели дома Ашеров» расщепляется в солому ворон. Бывший в начале фильма живым, он открывает свою соломенную «сущность». А неодушевленные камни из разрушенной стены, наоборот, сами скачут по лестнице, вылетают из окна и падают в болото. Вслед за ними выезжает через дверь (или выпрыгивает из окна) утварь—шкаф вместе со стульями направляются к тому же болоту, где они и тонут[25].
Реже случается, когда деструкция оказывается обратимой. В картине «Кое-что из “Алисы”» (1987) уничтоженная девочкой кукла, из которой высыпались все опилки, заново заправляется ими, зашивается и обретает новую жизнь. Такого рода «гуманный» подход определяет менее пессимистический, относительно спокойный поздний период творчества художника.
Эпилог: ряд дополнительных замечаний
Нужда в заключительной главе продиктована пользой разбора еще нескольких формирующих образность элементов, которым не нашлось места в других разделах.
М.Ямпольский в книге «О близком» приводит в пример из «Илиады», «где Ахилл говорит, что жизнь человека нельзя украсть, если дыхание покинуло его губы» (в дословном переводе жизнь пересекает «барьер зубов»), и дальше развивает мысль: «Этот гомеровский «барьер зубов» отделяет жизнь от смерти. Старобинский замечает: «Удержать дыхание, помешать ему навсегда уйти за барьер зубов: вот элементарная, но основополагающая формула контроля над границами, отделяющими внутреннее и внешнее человека»[26]. Мотив внешности и ее внутреннего наполнения мы довольно подробно разобрали на примере кукол, но вопрос самого барьера в сюрреалистической эстетике тоже представляется немаловажным.
«Зубы—как раз один из таких барьеров. <…> Тот факт, что именно зубы обретают гиперреалистическую рельефность, по-видимому, связан с их функцией границы, с их способностью как бы проваливаться вовнутрь, выбухать наружу, то есть в своем роде выворачиваться» (курсив М.Ямпольского—В.Л.)[27]. С этой цитатой сопоставúм фрагмент художественного произведения—романа Богумила Грабала «Я обслуживал английского короля» (1970). В основной период формирования своей стилистики писатель был членом сюрреалистической «Группы РА», действовавшей с 1946 года. Поэтому элементы сюрреализма, преломленные индивидуальностью автора, в большей или меньшей концентрации насыщают повествование его романов.
Относительно зубов писатель обращается к близкому Шванкмайеру образу искусственных челюстей, которые существуют независимо, более того, он рисует их ужасающее скопление: «…и когда я открыл последний большой чемодан и посветил в его утробу, я ужаснулся, хотя и мог ожидать такое у фабриканта искусственных челюстей, в чемодане были эти самые искусственные зубы и десны, так много, розовое нёбо, десны с белыми зубами, сотни искусственных челюстей»[28]. И дальше: «как пожирающие мясо растения выглядели эти зубы, стиснутые и крепко сжатые, некоторые полуоткрытые, другие открытые, будто эта искусственная челюсть зевала, даже выворачивалась из петли сустава» (курсив мой—В.Л.)[29]. Это уже сюрреалистическая метафора: искусственная челюсть словно оживает.
Тему зубов как границы между внутренним и внешним человека Шванкмайер буквальным образом связывает с пространственной пограничностью. В финале «Гробиков» дается общий план театрального задника, составленного из дублированных изображений нарисованных лиц с дырами вместо ртов. Эти дыры по сути становятся входами в иное пространство (по логике—в закулисное, но его наличие ни разу не афишируется), использовав один из которых, морская свинка покидает сцену.
Механизм словообразования полагает зубы границей, «на которой образуется речь, вылетающая изнутри человека, из места обитания смыслов и души, как они традиционно понимались в европейской культуре, наружу»[30]. Будучи яркой чертой эстетики Шванкмайера, коллажность в сочетании с подменой человеческой речи предметами (наглядный пример—«овеществленное» общение в «Возможностях диалога») у Грабала выступает не менее красочно: «…я пел так же, как выл пес, но чувствовал, что этим пением высыпаю из себя коробки и ящики, полные завалявшихся векселей и ненужных писем и открыток, что из моего рта вылетают обрывки старых, наполовину порванных, одна на другую наклеенных афиш, которые все вместе образуют бессмысленные тексты, где отчеты с футбольных матчей смешиваются с объявлениями о концертах, плакаты с выставок сливаются с афишами о выступлениях духовых оркестров…»[31]. Комментируя особенности таких построений, Ямпольский отмечает, что «апология текста как случайного набора вещей, понимание текста, как свалки— один из краеугольных камней сюрреализма»[32].
Еще один фрагмент грабаловского романа затрагивает сразу два мотива, характерных и для Шванкмайера—подмену живого существа неорганическим предметом и проблему отсутствующего источника, из которого исходит действие (последнее в тексте звучит, правда, более в метафорическом, нежели авангардном, ключе): «…мебель опрокинута, будто кто-то дрался со стульями и положил их на обе лопатки, будто кто-то бил стулья двойным нельсоном… кто-то разрубал топором балки, кто-то открывал топором запертый сундук— (курсив мой—В. Л.)»[33].
Напомнив об отсутствующем источнике действия, мы возвращаемся к проблеме источника зрения. В «Гибели дома Ашеров» самостоятельно передвигающийся гроб, осилив лестницу, оказывается на улице. В кадре—крупно—фрагмент его крышки, и затем следует план голых верхушек деревьев, снятый нижним ракурсом. Подобный взгляд на ветви деревьев возникал в «Падении дома Ашеров» Ж.Эпштейна, но степень остроты такого ракурса отчетливо напоминает известный эпизод из «Вампира» Дрейера (1932). То изображение связывалось с потусторонним взглядом из гроба, но Шванкмайер идет дальше: его план соотносится со взглядом самого гроба. Предметная материя не только оживлена, она, оказывается, наделена способностью зрения.
Вообще, нередко возникающая в чешском кино тема гробов связана не только с «черным юмором», как, к примеру, в «Гробиках». Там куклы в форме игры пытались уложить друг друга в гроб, внутренняя поверхность которого оклеена коллажем из бумаг, и изображение девы Марии является здесь лишь фрагментом. Превращение ритуала погребения в предметный коллаж из гробика, свечей и коробка спичек граничило бы с кощунством, если бы вызывало в авангардном прочтении тот спектр рефлексий, какой неизбежно сопутствует ему в рамках русской культуры с ее православной традицией.
В качестве примера приведем один любопытный диалог. В 1936 году чешcкий поэт В.Незвал вместе с И.Штырским попытались уловить суть сюрреализма на основе ответов на вопрос: «Что такое прямоугольники?» Их предположения в хаотическом порядке чередовали рождающиеся ассоциации. И, среди прочего, формулировка «каково значение кружев» вызвала у Незвала такую цепочку: «Кружева на подушке, бордюр на гробу, рубашка, сползающая с плеч, скатерть, падающая со стола, и возлюбленные, неожиданно бросившиеся в объятие»[34]. Выходит, что, оттолкнувшись от ассоциативности образа кружев, автор высказывания неумышленно обнаруживает: гробы занимают равноправное положение среди других вещей.
Расширяя свои значения в авангардной трактовке, этот образ находит место у Ю.Херца в «Сжигателе трупов», и гробы в его фильме ставятся в центр абсурдистской линии—не затем, чтобы шокировать. В освобожденном от эмоций пространстве они отражают искривление сознания философией нацизма.
Гроб в сюрреалистской эстетике отнюдь не исключителен. Связанный с антитезой мертвое—живое, во французском сюрреализме он зачастую обнаруживается через символику. Так если у Бунюэля в «Андалузском псе» жемчужина—по Дали—«призрак черепа», то ее раковина—гроб. Или же одна из трактовок известного эпизода с роялем и гниющим ослом предполагает рояль в качестве гроба. Пристрастие французского течения сюрреализма к знакам смерти и гниения носит более вызывающий характер, нежели концентрация «черного юмора» в чешском искусстве. Но, тем не менее, образы французского авангарда в большинстве своем отвлеченны, у чехов же предметы более конкретны: Шванкмайер, главным образом, экспериментирует с предметностью, осязательными свойствами вещей. Даже эпизод из насыщенного «черным юмором» «Антракта» (1924) Р.Клера, в котором движется похоронная процессия с катафалком, запряженным верблюдом, а люди, снятые в рапиде, бегут следом, читается абстрактно и носит, скорее, сновидческий характер.
Шванкмайер предельно конкретен, в особенности, когда он касается подмены функции вещи. В его «Мужественных играх» вместо уничтоженных футболистов на поле под жизнерадостную музыку играют разноцветные гробы. Роль гроба, как у Трнки в «Руке», может исполнить и шкаф, куда Рука укладывает умерщвленного героя, издевательски соблюдая похоронный ритуал.
Семантика шкафа позволяет ему совмещать различные функции и находить множество применений. У Шванкмайера в «Джаббервоках» шкаф выступает моделью сцены. Его дверцы заменяют занавес, и каждый раз, когда они открываются вновь, декорация внутри уже успевает смениться. Затем внутри шкафа оказывается миникомната—почти зеркальное отражение комнаты, в которой он находится, но в уменьшенном, «игрушечном» формате. На настоящей сцене («Сжигатель трупов») шкаф, откуда выходит загримированная под куклу актриса, есть необходимый реквизит для спектакля. Таким образом, предполагается, что внутри шкафа существует иное пространство, позволяющее вещам ждать часа своего выступления.
Действительно функция шкафа или ящика может быть соотнесена с ролью зеркала у Кокто: зачастую они открывают входы в другое пространство, в пограничный мир. Из ящика стола в «Возможностях диалога», как из потаенной сокровищницы подсознательного, вываливается кусок глины, который моментально лепит из себя две головы. В «Джаббервоках» «живой» костюм, совершив путешествие по комнате, запрыгивает обратно в шкаф, где исчезает. В картине «Кое-что из «Алисы» девочка попадает в Страну Чудес через ящик стола. Когда Алиса залезает в него, пространство ящика оказывается коридором, пространство же шкафа, доступное взгляду зрителя, обычно ограничено задней стенкой, но вполне вероятно, что здесь действует сходная модель.
У Шванкмайера шкаф даже копирует внутреннее устройство куклы. В «Тихой неделе в доме» за распахнувшейся дверью шкафа оказывается поверхность, оклеенная газетами, на фоне которой, как маятник, раскачивается вставная челюсть. Внутри куклы зачастую находится коллаж (вспомнить хотя бы аттракцион из «Последнего трюка пана Шварцевальда и пана Эдгара», когда паны открывают свои головы). Пространство шкафа—функциональное назначение этого предмета изначально предполагает наличие чего-либо внутри—уподобляется внутренностям игрушки. И здесь, по ассоциации с куклой, челюсть есть то иное, что сокрыто внешней оболочкой.
В «Уроке Фауста» (1994), когда герой должен покаяться, ангел спускает на сцену изображение Христа, перед которым случайно оказывается ведро. Выходит, Фауст молится ведру. Затем в «Конспираторах наслаждений» (1996) у режиссера возникает своеобразный парафраз этого эпизода. В заброшенной церкви звучит хоральная музыка, в глубине ее находится шкаф, перед которым стоит ведро с водой. Дама зажигает перед шкафом, как перед иконой, свечи, и заходит внутрь. По своему пространственному расположению шкаф уподобляется алтарной части церкви, а эпизод, отыгранный в «Уроке Фауста», укрепляет такую ассоциацию. За алтарем, как известно, начинается небесное пространство, что соотносится с проблемой дополнительного измерения внутри самого шкафа. Снижение религиозного ритуала в духе «черного юмора» (дама выходит из шкафа в облачении с садомазохистскими аксессуарами), программное святотатство отвечает вызывающему характеру авангарда.
1. Цит. по: «Ян Шванкмайер: Эта цивилизация недостойна жалости» на сайте www.x-star.ru.
2. Я м п о л ь с к и й М. Память Тиресия. Интертекстуальность и кинематограф, М., РИК «Культура», 1993, с. 267–268.
3. Хотя сюрреалисты фильм не приняли, сочтя его фальсификацией, подделкой под Бунюэля, и фигура Жана Кокто отнюдь не почиталась в рядах ревнителей чистоты учения, мы остановимся на «Крови поэта» достаточно подробно, поскольку его концентрированная поэтическая структура суммирует отдельные особенности французского авангарда, рассыпанные по другим текстам (заслуга этой картины более всего состоит в таком суммировании). Кстати, и сам Кокто сюрреалистом себя не считал.
4. Я м п о л ь с к и й М., цит. соч., с. 274.
5. Штырский Индржих (1899–1942)—художник, теоретик фотографии, коллажист. Творчество начинал в Художественном союзе «Деветсил», в Париже в 1926 г. основал новое движение «артифициализм», сочетающее в себе черты кубизма и сюрреализма. Затем становится одной из главных фигур сюрреалистической группы в Праге, основанной в 1934 году.
6. В кн.: От конструктивизма до сюрреализма. М., «Наука», 1996, с. 182.
<…>
10. П о Э. А. Колодец и маятник.—В кн. П о Э. А. Избранные произведения в 2-х томах. Т.2, М., «Худ. лит.», 1972, с. 88.
11. М.Ямпольский прослеживает мифологию колеса, основываясь на одноименной картине А.Ганса 1923 года, и через интертекстуальную ассоциативность рассматривает заложенную в нем идею движения (по Сандрару) и символику круга. «Колесо здесь оказывается фундаментальной метафорой становления нового языка. Воспроизводя в своем движении ритмичность, механистичность артикуляционного аппарата (будучи метафорой органов речи), оно вращает калейдоскоп образов-цитат» (Я м п о л ь с к и й М., цит. соч., с. 211–226).
12. Л о т м а н Ю. Об искусстве. СПб., Искусство–СПБ, 2000, с. 645–649.
13. Б и р г у с В., Д у ф е к А., цит. соч., с. 224.
<…>
15. Кашпарек—комический персонаж чешского кукольного театра. По роли, которую он исполняет в пьесах, Кашпарека можно сравнить с русским Петрушкой.
16. Л о т м а н Ю. Куклы в системе культуры.—В кн.: Об искусстве, СПб., Искусство– СПБ, 2000, с. 648.
17. Цит. по: А с е н и н С. Мир мультфильма, М., «Искусство», 1986, с. 115.
18. Гейслер Индржих (1914–1953)—поэт, присоединился к группе пражских сюрреалистов в 1938 г. В военные годы создавал коллажи, фотомонтажи и «фотогравюры». Незадолго до коммунистического переворота в Праге уезжает в Париж, где продолжает сюрреалистическую деятельность.
<…>
20. Б о г а т ы р е в П. Чешский кукольный и русский народный театр, Берлин–Петербург, «ОПОЯЗ», 1923, с. 12.
21. Там же, с. 13.
22. О р ш а н с к и й А. Игрушки. М.–CПб., Гос. изд-во, 1923.
23. Кстати, сопутствующий мотив заключения тела во внешний кокон мелькает у Паркера в картине «Пинк Флойд—Стена». Герой пытается сорвать оболочку, но в фильме это дано в качестве процесса инициации, рождения нового человека (в контексте эстетики, сильнее связанной с экспрессионизмом, нежели с сюрреализмом), что не мешает образу выступить примером определенной популяризации авангардных находок, успевших до того отыграться в клипах и вновь вернувшихся в большое кино.
24. Л о т м а н Ю., цит. соч., с. 647.
25. Сходный мотив, который близок легенде, положенной в основу «Крысолова», затем использовал И.Барта в своем одноименном фильме, но если в «Гибели дома Ашеров» Шванкмайера среди достоверно прописанного быта ожившие стулья вдруг вылетают из окна в болото, то у Барта, наоборот, в пространстве условной декорации живые крысы прыгают в настоящую воду.
26. Я м п о л ь с к и й М. О близком. М., Новое литературное обозрение, 2001, с. 96–97.
27. Там же, с. 97.
28. Г р а б а л Б. Я обслуживал английского короля. М., Иностранка: Б.С.Г.–ПРЕСС, 2002, с. 207.
29. Там же, с. 207–208.
30. Я м п о л ь с к и й М. О близком, с. 97.
31. Г р а б а л Б. цит. соч., с. 230.
32. Я м п о л ь с к и й М. Сюрреализм и мультипликация.—«ARS», Рига, издание Рижского видеоцентра и дирекции кинофорума «Арсенал», 1988, № 2, сентябрь, с. 7.
33. Г р а б а л Б., цит. соч., с. 215.
34. См.: Л а ш т о в и ч к а М. Чешские сюрреалисты—писатели, лежащие под ногами Сфинкса.—www.radio.cz.ru.
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.