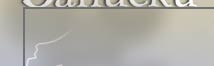|
 |
|
Виктор КОРОТКИЙ
Термин «светотворчество» не является нашим изобретением. Он широко использовался в устной полемике и газетной и журнальной периодике 1910-х годов: «Тяжелую утрату несет русское светотворчество...» (В.А. [возможно, В.Ф.Ахрамович-Ашмарин]. Некролог на смерть Е.Ф.Бауэра.—«Театральная газета», 1917, июль, № 29–30, с. 16). Его в своих статьях использовал И.Петровский (П е т р о в с к и й И. Кинодрама и киноповесть.—«Проектор», 1916, № 18–20. Фрагмент см. в кн.: Г и н з б у р г С. Кинематография дореволюционной России. М., 1963, с. 288–289). Начинающий кинотеоретик Лев Кулешов во вступлении к статье «Знамя кинематографии» (1920), в частности, писал: «...Когда были модны споры о «великом немом», о «светотворчестве» и т.п., то большинство из художников, даже приобретших имя и опыт в новой отрасли, высказывали в этих спорах ту точку зрения, что кинематограф—действительно искусство, но...» (К у л е ш о в Л. Собрание сочинений. Т. 1. М., 1987, с. 64).
Мы привели только фрагмент фразы с тем, чтобы показать, как термины «кинематограф», «светотворчество», «великий немой» заменяют друг друга. Однако нельзя сказать, что значения этих терминов полностью совпадают. Статья Кулешова «Искусство светотворчества» (1918) начинается с утверждения, что «...еще не известны основы искусства светотворчества, еще туманны его пути в будущем, неясно и ощупью идут новаторы кино... к новым истолкованиям кинематографа» (К у л е ш о в Л. Указ. соч., с. 61). Нетрудно сделать вывод из тезиса Кулешова: кинематограф—данность, он—то, что есть, что уже снято на пленку, а искусство светотворчества—то, главным образом, что еще предстоит создать, т.е. искусство в большей мере потенциальное. За термином «светотворчество» стоит пафос созидания нового.
На рубеже 1910–20-х годов происходит перелом в сознании Льва Кулешова. Об этом говорит и первоначальное название статьи «Знамя кинематографии»—«Монтаж. Знамя светографии». Кулешов под впечатлением от американских фильмов все больше склоняется к тому, что заглавное выразительное средство кино—монтаж, но окончательно еще не решил, все-таки кинематограф—искусство света или искусство монтажа?.. Влияние его учителя Е.Ф.Бауэра, которого уже три года как нет на свете, ослабевает, и 1920 год можно рассматривать как некий водораздел. В то время как пути нового кино еще не ясны—искусство светотворчества во главе с фигурой покойного Бауэра пришло к своему завершению. О том, что Лев Кулешов не вдруг расстался со светотворчеством, говорит свидетельство В.Туркина:
«...В начале 1919 года [я] был призван в Красную Армию и лишь в 1921 году демобилизовался.
За это время я дважды встречался со Львом Владимировичем по интересным поводам, ибо Л.В. устраивал читку своих статей, посвященных Бауэру. Это была первая творческая декларация и первая дискуссия о его воззрениях. Читалось это в тесном кругу лиц: и дискуссия была чрезвычайно теплой и интересной...» (цит. по кн.: Из истории ВГИКа. Часть 1. М., 2000, с. 267). В отличие от юного Кулешова, Н.М.Иезуитов полагал, что светотворчество как явление практически состоялось: «Про фильм «Жизнь за жизнь» можно было уже сказать, и сказать не сомневаясь, что он, по технике выполнения, по тщательности и размаху постановки, по художественности достигнув уровня лучших заграничных фильмов того времени—итальянских и французских,—продемонстрировал огромные возможности русского кинематографа, подошел близко к пониманию принципов того, что называли тогда «светотворчеством» (Вопросы киноискусства. Вып. 2. М., 1958, с. 287).
В нашей статье речь пойдет о начальном этапе использования электрического света в практике московских увеселительных садов и на сценических подмостках в последней трети XIX века.
Новизна, экстраординарность явления обусловили подчеркнуто зрелищный, аттракционный характер его применения. Несколько десятилетий этот феномен царствовал в зрительском восприятии. Это не могло не сказаться на формировании отношения зрителя к еще одному, новому аттракциону, который пришел на смену первому, находящемуся в зените своей славы. Тем более что аттракционность кинематографа первоначально также целиком располагалась в сфере визуального восприятия.
Немаловажным отличием восприятия кино в России было также то, что госмонополия на частное театральное предпринимательство в столицах была отменена только в 1882 году; многочисленный контингент зрителей, практически не имевший доступа в казенные театры, получил возможность посещать спектакли частных антреприз, в первую очередь Лентовского. Для этого новоиспеченного зрителя феерии Лентовского обладали новизной не меньшей, чем кинематограф. Тем более что и природа этих спектаклей, все больше похожих на оптические представления, была сходной. Таким образом, кинематограф в России попал в более жесткие, чем в Европе, конкурентные отношения.
Наблюдение развития кино в России с позиции московских зрелищно-увеселительные предприятий позволяет найти некий общий знаменатель решения фундаментальных вопросов становления кино как искусства в нашем отечестве. Этот общий знаменатель—зрелищность сценических и садовых представлений, активно формировавшаяся в этот период визуальная доминанта их восприятия.
В отношении кино эта зрелищность выступала и как конкурентное, подавляющее начало, и как позитивно действующий антагонист.
Некоторая сложность методологического механизма, положенного в основу работы, состоит в том, что ее материал, объект исследования—русская оперетта конца прошлого века, а предметом является кинематограф. Таким образом, зрелищное в оперетте мы будем рассматривать как потенциально кинематографическое.
В работе мы продолжаем изучение докинематографического периода в творчестве Евгения Францевича Бауэра[1].
<…>
Александр Эдуардович Блюменталь-Тамарин
(30 августа 1858–1 декабря 1911)
<…>
Антреприза А.Э.Блюменталь-Тамарина в Шелапутинском театре продлилась четыре сезона, стала кульминацией его артистической карьеры, и в том, что сезон 1897/98 годов станет последним, виноваты обстоятельства внешние, не творческие[47].
Новое опереточное предприятие, затеянное Тамариным в сезоне 1894/95 годов, соответствовало ожиданиям публики. Публика знала, чего именно она ждет, и не прогадала.
Несмотря на то, что в прессе не было широкой рекламы накануне открытия сезона, спектакли сразу пошли. М.В.Лентовский благословил начинание своего воспитанника, символическим ключом открыв здание театра[48]—и завертелось огненное колесо феерической оперетты. «Вчера, при совершенно полной зале, очень шумно, весело и оживленно открылся»[49] и т.д.
Какое-то время пресса пыталась выдержать критический тон в оценках спектаклей («режиссерская часть несколько хромает—хоры неподвижны и разнообразия групп не замечается»[50]), но надолго ее не хватило. Тон сдержанности скоро сменится тоном удивления и восхищения, и эта тональность сохранится до конца антрепризы, перемежаясь нотками иронии («электричество играет превосходно»—о спектакле «Необычайное путешествие на Луну»[51]) или осуждения, смешанного с удивлением («блестящая обстановка так ослепляет, что зрители ничего не видят, что творится на сцене»[52]).
Дни траура в связи с кончиной императора, прервавшие спектакли первого сезона[53], не помешали им с большим размахом возобновиться через три недели.
И октябрьские (до траура успели дать пять спектаклей), и ноябрьские представления — среди них «Наши Дон Жуаны» Рота, «Дочь рынка» Шарля Лекока, «Нищий студент» Карла Миллекера, «Цыганский барон» и «Прекрасная Елена» Жака Оффенбаха, «Корневильские колокола» Робера Планкета — постепенно, от спектакля к спектаклю, набирали силу. Соответственно изменялись оценки рецензентов: «обстановка и костюмы весьма приличны»[54], «оперетка под режиссерством г. Блюменталь-Тамарина поставлена прекрасно»[55] (о постановке «Корневильских колоколов»), «давно уже в Москве не было такой оперетки»[56], «оперетты, прекрасно срепетованные, разыгрываются чрезвычайно живо: публика от души смеется в продолжении всего спектакля. Превосходная обстановка, опытность и умение режиссера А.Э.Блюменталь-Тамарина заставляют жить на сцене даже хоры»[57] (о спектаклях «Птички певчие» по Ж.Оффенбаху и «Бедный Ионафан» по К.Милликеру), «декорации новы и изящны и, благодаря этой обстановке, эффектной и даже роскошной—«Бедный Ионафан», несмотря на всю свою заигранность, получает известную прелесть новизны»[58].
Центральное место в сезоне заняла постановка оперетты Карла Целлера «Мартин-рудокоп». Премьера состоялась 29 ноября, и, действительно, особенно тщательная подготовка, реакция прессы и публики поставили ее в исключительное положение. Но важно отметить, что незадолго до этой премьеры в прессе уже появились оценки[59], которые определенно свидетельствовали в пользу того, что антреприза Блюменталь-Тамарина состоялась.
Попробуем восстановить основные черты визуального облика спектакля «Мартин-рудокоп» по отзывам прессы.
В день премьеры «Московские ведомости» представили декорации всех трех действий:
1 действие. Нагорный городок Мариенцеде и вход в рудники. Пройдет поезд железной дороги.
2 действие. Зимний сад с гротами из различных камней и металлов. Праздник рудокопов.
3 действие. Парк в лунную ночь[60].
«Что касается декораций, костюмов и аксессуаров, то в этом отношении постановка щеголяет необычным для честного опереточного театра богатством и изяществом. Декорации во всех действиях прекрасны, но зимний сад вызвал целую бурю рукоплесканий, также как и шествие...»[61]. «Декорации—особенно второго акта (за которые А.Э.Тамарина вызвали 2 раза) и первого акта—прекрасны, костюмы новы и очень эффектны...»[62].
И наконец: «...Поставлена оперетка с феерической роскошью, костюмчики с иголочки и красивы, в декорациях вкус и красота...» Обозреватель в качестве центра спектакля выделяет шествие, «остроумно задуманное и роскошно выполненное, напоминающее нечто из блестящих времен Лентовского. Шествие в аллегориях и лицах дает все, что добывает из земли рудокоп: от угля до золота. Дам, изображающих благородные металлы, везут пони, оркестру рудокопов предшествует комический тамбур-мажор, ростом в «коломенскую версту» ...шествие заканчивает второй акт в красивой живописно расположенной живой картине, эффектно освещенной электрическими звездами...». Рецензент «Русского листка» согласен, что «шествие драгоценностей удалось как нельзя лучше... вся картина второго акта произвела совершенно волшебное впечатление благодаря удачным и красивым электрическим эффектам»[63].
В оценке исполнителей критики были не менее единодушны:
«Оперетка срепетирована замечательно тщательно, хоры живут, движутся, а не стоят неподвижными истуканами, артисты стараются изо всех сил...»[64], «исполнители же как на главных ролях, так и второстепенных, до хористов включительно, играют очень весело и оживленно, сцена дышит жизнью»[65], «играют в высшей степени добросовестно»[66].
Рецензент «Новостей дня», обнаруживая хорошее знание предмета и знакомство с либретто, заметил:
«Все, что есть слабого в этой новинке, принадлежит либреттисту и композитору. Все, что было на первом спектакле живого, веселого, остроумного, принадлежит режиссерскому вдохновению г. Блюменталя. Он везде, где только можно, перекроил либреттиста, вставил свои сцены, роскошное шествие, и если бы он еще прошелся режиссерским карандашом по прозе, все было бы блестяще...»[67]
19 декабря спектакль прошел в десятый раз, и «опять почти полный сбор»[68].
Авторство создателей декоративной части не всегда становилось известным. М.О.Янковский писал о том, что обычной практикой для антрепренеров того времени было использование заемных рисунков декораций со сцен Парижа, Вены, Берлина. В частности, в «Московских ведомостях» промелькнуло сообщение о том, что в «Мартине-рудокопе» «костюмы сделаны по рисункам театра An der Wien»[69]. Но и оригинальное, домашнее авторство также могло иметь место. 9 декабря в первый раз была поставлена «Адская любовь», «сочинение Сен-Жоржа, музыка Альб. Гризара, оригинальные мизансцены г. Блюменталь-Тамарина, с полной новой обстановкой... Декорации работы известных декораторов: Д.Феоктистова, А.Борегара и Ф.Наврозова»[70]. Этот спектакль не был проанализирован критиками с той взволнованностью и самоотверженностью, как «Мартин-рудокоп». Вдохновение от спектакля в преображенной форме трехстишия выразил один из авторов «Русского листка»:
«Обстановка—чудо, —
Все раскрыли рты:
«Блюменталь, откуда достаешь все ты?..»
Целый ряд оваций
Восхищенья крик,
Свежесть декораций,
И костюмов шик...
Очарован пеньем,
Я прослушал вновь
С райским наслажденьем
Адскую любовь!..»[71]
Коротко подведем итоги первого сезона. Прежде всего нельзя сказать, чтобы электричество играло в спектаклях «превосходную» роль. Скорее, роль эту можно охарактеризовать как служебную: ее назначение—представить в наиболее выгодном свете декорации, мизансцены, актеров, что и не преминула отметить критика. Декоративная составляющая спектаклей заметно подчеркнута—и одновременно она сливается с умелой, талантливой режиссурой, не отделяясь в область автономную, самоиграющую. Декорационно-обстановочный блеск не затмевает тщательно организованного целого. У спектакля «Мартин-рудокоп», о котором мы можем говорить увереннее, чем о других спектаклях сезона, один автор-режиссер. Его же, по-видимому, следует считать и автором визуального облика спектакля.
Евгений Францевич Бауэр
(7 января 1867–9 июля 1917)
Бауэр—сын придворного музыканта, профессора игры на цитре; учился в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. Как художник-декоратор принимал участие в оформлении любительских спектаклей (выступал также как актер) в Немчиновке, Мошнинке[72], электрической выставки (см. ниже), гуляний в Московском манеже[73], в создании сада «Чикаго»—последней крупной антрепризы М.В.Лентовского; есть основания полагать, что Е.Бауэр причастен к созданию всех антреприз Лентовского, начиная с «Эрмитажа».
Антреприза «Чикаго» не задалась. Два года сад существовал довольно невнятно, а на третий—свято место пусто не бывает—трансформировался в сад «Гейтен». Для цивилизованной публики новое название загадки не представляло, потому что Лидия Николаевна Гейтен—известная балерина, солистка Большого театра[74]. Спектакли в саду оформлял Е.Ф.Бауэр. Первый год сотрудничества с Л.Н.Гейтен—летний сезон 1895 года—стал его триумфом. Ни до, ни после московская пресса не уделяла Евгению Бауэру столько внимания. Спектакли, которые он оформил в саду «Гейтен», превзошли постановки самого Блюменталь-Тамарина! За четыре месяца (с мая по сентябрь) им написаны декорации к десяти спектаклям. Удивляет его работоспособность, но дело, как мы увидим, отнюдь не в количестве.
Территория на углу Тверской и Садовой была в это время одним из немногих электрифицированных мест Москвы. И неслучаен интерес именно к ней Лентовского и других антрепренеров. Неслучайно и то, что, кто бы из них ни арендовал у Малкиеля этот участок—Лентовский ли, Гейтен или позже Шарль Омон,—в качестве одного из ближайших их сотрудников мы встречаем Е.Ф.Бауэра.
Несколько слов о М.С.Малкиеле, московском миллионере, негоцианте и меценате, который являлся владельцем участка и в этом качестве имел прямое отношение ко всем возникавшим здесь увеселительным и прочим предприятиям.
В период русско-турецкой войны 1877-78 годов он «был поставщиком обуви на Задунайскую армию», после чего «зашуровал на всю Москву»[75]. Купил два дома на Тверской и, в частности, интересующий нас участок земли. Для А.А.Бренко, устроительницы первой в Москве частной театральной антрепризы, выстроил здание театра, получившего впоследствии название Пушкинского[76]. Как одна из лучших драматических сцен столицы театр просуществовал недолго. Вокруг имени Малкиеля разразился скандал — в прессе появилась статья «Дом из бумажных подметок» о недобросовестных поставках в армию, об обмороженных ногах солдат и прочем, началось следствие[77]. Малкиель «отбоярился», но театр, лишившись его поддержки, прекратил свое существование.
Тем временем пустырь на углу Тверской и Садовой пущен в оборот. На нем, сменяя друг друга, возникают двор для продажи земледельческих орудий[78], электрическая выставка Императорского Русского Технического Общества, постоянная универсальная выставка. Выстроен павильон, буфеты, сценические площадки, устроены электрические фонтаны.
«Электрическая выставка расширяет интерес своего... увеселительного сада, вернее, цветника. Пока неподвижные экспоненты двигают черепашьим шагом свое электричество, администрация сада спешит развлекать публику: г-н Главач «весело» играет, умело увлекает, а в антрактах публике показываются эффектные «светящиеся фонтаны». Это очень забавная и освежающая игрушка... Новые фонтаны бьют стеной и переливают всеми цветами радуги... Для пущего эффекта среди фонтанов показываются «живые картины», созидаемые фантазией молодого художника г. Бауэра... Все очень оригинально, а главное—не скучно...»[79]
Но вернемся к началу летнего сезона 1895 года. Неприсяжный рецензент не оставляет своим вниманием Евгения Бауэра:
«В постное время нельзя было не побывать на «постном» концерте, и я выбрал концерт знаменитого цитриста г. Бауера. Он играет восхитительно, увлекательно и дает какую-то «поэзию звуков»... За его игрой следовали его семейные дарования: пели две дочери (сопрано и контральто), и показывал свои художественные «фокусы» (в один час нарисовать картину масляными красками, в 7 квадратных аршин, по сюжету публики) его сын, за которым следовали другие музыкальные виртуозы... Две г-жи Бауер—еще молодые певицы, которым еще есть время развить голоса и достойно послужить искусству; что же касается молодого г. Бауера, то, с такими взглядами на художество, едва ли и в будущем он достойно ему послужит...»[80]
Может быть, доля истины и есть в словах обозревателя, но за молодого Бауэра все-таки хочется заступиться. Из сообщения неясно, как зритель, присутствовавший на концерте, оценил уровень исполнения заказа. Неприсяжный рецензент ставит Бауэру в вину заданную быстроту исполнения, не учитывая специфику работы художника-декоратора в оперетте, где новые спектакли ставятся раз в неделю и оперативность работы имеет немалое значение.
Сад «Гейтен» открылся второго мая «Цыганским бароном»: «Очень чистенькие, добросовестно исполненные» декорации, «подгуляло освещение на сцене»[81]. Пятого мая—«Морской кадет»[82]: «Декорации г. Бауэра (в особенности—зал первого акта) прекрасно освещены электрическими огнями, прямо роскошны... за обстановку и световые эффекты в конце спектакля... вызывали г-жу Гейтен»[83]. «Морской кадет» поставлен роскошно, декорации богаты и красивы»[84].
23 мая—премьера «Прекрасной Елены»: «Бесспорно красивы декорации, за которые заслуженно вызывали Е.Ф.Бауэра...»[85]. Л.Мунштейн (Lolo)[86] в своей стихотворной хронике московской жизни подытожил:
«Всех москвичей забрали в плен «Морской кадет» и «Belle Helene»[87].
В отзывах рецензентов о спектаклях сада довольно скоро происходит качественная перемена: реакция на «декорации г. Бауэра» обособляется, они становятся объектом специального интереса. «Безукоризненны обстановка вообще и декорации г. Бауэра, в особенности декорация первого акта, представляющая мастерскую цветника со стеклянной верандой, и перспектива декорации второго акта (глубь танцевальной залы) производят большое впечатление»[88] (речь идет о постановке оперетты «Жена Нарцисса» Луи Варнея). Вот он, наш будущий кинорежиссер: здесь и застекленная веранда, как в «Детях века» (1915), здесь и глубь танцевальной залы, как в «Жизнь за жизнь» (1916).
Далее Л.Н.Гейтен или, скорее, ее муж А.Л.Шарпантье, прежде певший в оперетте[89], решили ставить «Мартина-рудокопа» Целлера. Обозреватель «Русского листка» в своем комментарии припомнил, что «оперетка была поставлена А.Э.Блюменталь-Тамариным с поразительной роскошью» и что, таким образом, интрига Л.Н.Гейтен состояла в том, чтобы «затмить постановку ... Тамарина»[90].
Премьера состоялась 23 июля.
«...Нужно отдать справедливость дирекции сада—благодаря положительно безумным затратам и таланту художника-декоратора Е.Ф.Бауэра—«Мартин-рудокоп» предстал перед публикой... в таком блестящем, таком роскошном виде, что вся зала замерла от восторга и удивления и наградила Л.Н.Гейтен и г-на Бауэра долго не смолкавшими шумными рукоплесканиями... Первая, как директриса, не пожалела затрат... а как балерина—очаровательно танцевала во вставном балете второго акта; второй—создал такие дивные декорации, что даже московская публика, избалованная роскошной обстановкой, была удивлена и восхищена...»[91] «Постановка обязана своим успехом г. Бауэру, который превзошел сам себя в исполнении великолепных декораций»[92].
«Мартин-рудокоп» идет при очень богатой обстановке.
Это делает честь г. Бауэру.
Молодой художник за последнее время заметно выдвигается.
Прежде всего, он оригинален.
Это лучше, чем если бы он был только талантлив.
<...>.
Г-ну Бауэру особенно удалась декорация «Праздник рудокопов»[93].
28 июля Евгений Бауэр справлял свой бенефис, в этот день состоялось третье представление «Мартина-рудокопа»:
«Полные сборы, бывшие во время первых двух представлений «Мартина», во многом обязаны сегодняшнему бенефицианту. Его декорации необыкновенно эффектны и тем более интересны, что при массе всякого «блеска», художественно выдержаны в целом. Особенно это относится к обстановке второго акта, где на сцене—смело задуманная декорация, представляющая грот, своды которого сделаны из драгоценных камней и минералов. Малейшая утрировка превратила бы эту декорацию в лубок. Хороша также и декорация третьего акта, изображающая иллюминованный сад...»[94]
Итак, две московские премьеры одной оперетты. Если в первом случае обозреватели наравне с декоративными достоинствами спектакля отмечали также талантливую режиссуру, то во втором этого не произошло[95]. Талант художника предстает, можно сказать, в чистом виде. Второй вывод, который можно сделать по итогам работы Е.Бауэра в антрепризе Л.Н.Гейтен: роль электрического освещения и световых эффектов в оформлении спектаклей более заметна, чем это было у Блюменталь-Тамарина. Возможно, все происходит в точности так, как накануне премьеры «Мартина-рудокопа» в саду «Гейтен» (именно вслед за Шелапутинским театром, где «возобновленная зимой оперетта дала почти двадцать сборов»). Обозреватель «Новостей дня» констатировал: «Уже давно публика сделалась равнодушной к остроумию, предпочитая веселому словечку электрическое освещение. Чем больше электричества, тем сильнее успех»[96]. Талант художника-декоратора, помноженный на новое чудодейственное выразительное средство и умение использовать его с максимальной выгодой для своего художнического дара—вот формула успеха спектаклей в саду «Гейтен» летом 1895 года.
Ближе к концу сезона состоялся бенефис А.Л.Шарпантье — давали оперетту «Рип-Рип» Р.Планкета. Спектакль прошел с успехом, и «даже декоратора Е.Ф.Бауэра вызвали за декорацию 2-й картины второго акта—декорацию, правда, красивую, но далеко не выдающуюся»[97]. «Очень красивая декорация второго акта «Блуждающие огоньки» — пропасть, истлевшие могильные камни вытесаны г. Бауэром с большим умением, и г. Бауэра два раза вызывали»[98]. Не эту ли декорацию использовал затем Бауэр в своем фильме «Грезы» (1915), в котором есть такой эпизод: главный герой (актер А.Вырубов), придя в театр вслед за таинственной незнакомкой, оказывается на спектакле; сцена представляет собой кладбище и «истлевшие могильные камни», которые вдруг поднимаются, а из-под них встают «погибшие души» и устраивают пляску мертвецов?..
4 сентября «Новости дня» сообщили, что сезон для устроителей сада был очень удачным (валовой сбор—150 тысяч) и что «театр и сад остались за г-жой Гейтен и на следующий сезон», а также о том, что на последнем представлении «Мартина-рудокопа» «пришлось приставить кресла во всех рядах»[99].
Театр Шелапутина, сезон 1895/96
Блюменталь-Тамарин, видимо, был из тех, кто оставляет последнее слово за собой. И, продолжая интригу Гейтен, он решил добиться победы ее же главным оружием—пригласил Бауэра оформлять свои спектакли.
Второй сезон блюменталевской антрепризы был куда более шумным, даже помпезным и, соответственно, дорогостоящим.
<…>
В 1896 году—не по итогам, а в разгаре антрепризы, по окончании второго ее сезона, который мы рассмотрели, вышла книжка М.В.Карнеева «Блюменталь-Тамарин. Биографический очерк», которую нам уже доводилось цитировать. Явление «Блюменталь-Тамарин» автору уже теперь представляется настолько отчетливым и несомненным, состоявшимся, что он решает немедля зафиксировать в печати это имя и дать оценку этому явлению. Вот что он пишет в заключение:
«Стройность исполнения вполне обеспечивали художественный вкус и режиссерские способности А.Э.... Это прирожденный режиссер. Он как немногие, заставляя жить на сцене толпу действительною жизнью, не только умеет приготовить пьесу к исполнению (мизансцены А.Э.— настоящий шедевр), но обладает также ценными в режиссере способностями усвоить себе эту... пьесу всю в общности; затем, не теряясь в педантичных подробностях—указать на пробелы, которые найдутся в исполнении отдельных лиц, и соединить эти отдельные лица в нечто целое»[157].
Можем добавить от себя: на редкое режиссерское мастерство указывает то обстоятельство, что практически все выдающиеся постановки сезона 1895/96 годов осуществлены вопреки исходному материалу. Начиная с «Пробного поцелуя» («оперетка не представляет особого интереса ни по содержанию, ни по музыке... Миллекер мало напоминал автора «Нищего студента». ...Представляет значительный интерес вследствие восхитительной постановки»[158]) и далее, с «Ночи в Венеции», «Мадам Сан-Жен», которые мы подробно разбирали, режиссер преодолевает слабость и подчас откровенную непрофессиональность либретто, как будто находя особое удовольствие в том, чтобы возводить великолепное здание на песке. Мизансцены Блюменталь-Тамарина, видимо, только малая часть его режиссерских дарований.
Но в оценках спектакля «Мадам Сан-Жен» на первое место выходит все-таки работа художника-декоратора. Она выделяется даже на фоне блестящей режиссуры. Новаторство этой работы заслуживает более пристального внимания, чем то, которое мы смогли уделить ей, воспользовавшись довольно скупыми и в основном беглыми описаниями газет.
Свет и творчество
Освоение электрического света одновременно шло в разных направлениях; даже такое утилитарное его использование, как фонари Яблочкова в садах «Альгамбра» и «Эрмитаж», создавало фантастический эффект; источник освещения пребывал одновременно и в качестве аттракциона, и в качестве остраняющем: он создавал фантастическую действительность вокруг, преображал привычную среду и материальные объекты. Одним освещением достигался некий эффект театрализации, когда посетители сада чувствовали себя персонажами ненаписанной мистерии и как бы становились ими.
Условно разделим ранний период освоения электрического света в Москве на три этапа. Соответственно ассимиляция его в качестве выразительного средства на сценических площадках и увеселительных садах также получает свою периодизацию.
До начала 1890-х годов электрический свет на театре и в садах использовался эпизодически, за немногими исключениями (театр Корша, сад «Эрмитаж»). Происходило это на фоне практически полного отсутствия его в московском быту и общественной жизни. Ключевые слова к восприятию явления на этом этапе: «чрезвычайность», «новизна», «редкость», «чудо», «привилегированность».
1890-е годы характеризуются обязательным, акцентированным использованием электрического света в сценической и садовой практике. Электричество—модно. На центральных улицах устанавливаются электрические фонари. На сцене эффекты электрического света доминируют, претендуют на свою исключительность как выразительного средства. Ключевые слова: «радость», «торжество», «роскошь», «мода», «победоносное шествие».
Электричество в быту и общественной жизни становится все более привычным. В практике антреприз электрический свет как доминирующее выразительное средство постепенно нивелируется, уравнивается в правах с другими красками палитры. По-видимому, это происходит с начала 1900-х годов и особенно в 1910-х. Ключевые слова: «привыкание», «повышение требований к формам подачи явления», «демократизация».
Вообще, к свойствам электрического света можно отнести: способность освещать среду и предметы, делать их хорошо видимыми (служебная роль); его способность привлекать внимание самого по себе (аттракционная роль); способность вызывать положительные эмоции по простому принципу «есть свет—нет света», а также более сложные, связанные с регулируемостью присущих ему параметров: яркости, цвета, точной и тонкой направленности; способность формировать среду и модальность восприятия предметов (делать их плоскими или объемными), создавать образ предметов или среды. Лев Кулешов в статье «О задачах художника в кинематографе» (1917) выделил два способа построения декораций в кино:
«Громоздкие архитектурные постройки с возможно большим числом планов и изломов стен для более эффектного освещения и достижения благодаря этому большой глубины и стереоскопичности (метод Бауэра). Такие павильоны желательно рассчитывать на большое количество сцен, а так как лучше всего в каждом отдельно снятом моменте не повторять старой обстановки, то для этого надо ставить декорацию для фотографирования с разных мест и абсолютно различных, самостоятельных точек. <...> Применяется и второй, упрощенный декоративный метод. Идея такой постановки основывается на первом плане, на котором и концентрируется символ, душа декорации; остальные планы уже не важны в таком павильоне—они заменяются бархатом или просто затемняются»[159].
Нетрудно сделать вывод, что первый метод представляет собой постройку театральной декорации, адаптированной, насколько это возможно, для съемочного процесса, с использованием всего того арсенала средств освещения и построения глубокого пространства, которым Бауэр пользовался в своей театральной практике.
Функции, которые выполнял электрический свет на сцене, условно можно разделить на служебные (их выполняют рампа, софиты, кулисные щитки; они существовали на сцене и до прихода электричества) и художественные. Эти вторые, в свою очередь, можно разделить на те, где электрический свет дублирует на новом этапе технических возможностей традиционные источники света. У Извекова это—декоративное и эффектное освещение. А также те функции, которые возникли заново благодаря названным особенностям электрического света. Деление это условно, выше мы уже отметили, что даже фонари Яблочкова в садах—источники служебного назначения—приобрели свойство особой выразительности, аттракционности. Период аттракционности прошли все типы источников электрического света, подобно тому, как с такого же периода кинематограф начал свою историю. В меньшей мере это коснулось сценических источников традиционного назначения (вспомним замечание И.Л. о том, что в первой картине спектакля «Мадам Сан-Жен» «слишком резкое освещение в окнах»), в большей—источников нового назначения. Это закономерно, поскольку источники традиционного назначения были частью сложившейся системы выразительных средств и регулировались ею; источники нового назначения не подчинялись прежней системе, «настаивали» на автономии. Неприятие С-вым декорации второго акта «Мадам Сан-Жен», вероятнее всего, было вызвано фантастичностью не самой растительности в оранжерее (он не вполне только выразил свою мысль), а способов ее освещения. Вот что было действительно фантастично, поскольку аттракционно по существу и вне традиционной системы средств выражения. Янковский это отметил:
«Блюменталь-Тамарин откровенно рассчитывает на популярность пьесы (В.Сарду—К.В.), на актерский ансамбль и, главное, на эффектные декорации. Он прельщает публику богатством изысканных костюмов и декораций, в частности, видом Венеции и садом в Тюильри с фантастическим освещением. Эта ставка вполне оправдывает себя»[160].
С самого начала, с 60-х годов, со времен Вальца, электрический свет на сцене привлекал внимание сам по себе, его эффекты вводились в спектакль как самодовлеющие, обособленные. Спектакль в результате приобретал выраженный декоративный, а также аттракционный акцент. Может быть, и отнесение световых эффектов, построенных на использовании источников нового назначения (таких, как лампочки в руках балерин или вращающиеся колонны), к сфере декорационной не вполне корректно: автономия света повела спектакль по пути формирования «искусства в искусстве». Внутри традиционных видов сценического творчества—будь то балетный спектакль или опереточный—вызревал жанр оптического представления. Актеры, вокалисты, танцовщики существовали на сцене согласно канонам своего искусства, но акцент зрительского восприятия—благодаря усилиям антрепренера, режиссера и художника-декоратора вместе с осветителями—смещался в сторону светодекорационного оформления, включавшего в себя смену световых эффектов, их все более прихотливое чередование и сопоставление (монтаж аттракционов). Эта практика заслуживает названия светотворчества. Но это ранний его этап.
Более тонкую форму светодекорационного представления предложил Художественный театр в 1908 году. Создатели спектакля «Синяя птица», как пишет Ю.Г.Цивьян[161], стремились преодолеть практику и методологию постановки феерий, но в то же время «жанр феерии как бы изобретался заново»[162]. Создавалось все-таки акцентированно световое представление. В результате в одной из статей современников постановка интерпретируется как «обыкновенный балет, почти обыкновенная феерия, ушедшая вперед от времен «мага и волшебника»—покойного Лентовского — только благодаря новейшим техническим усовершенствованиям и завоеваниям электричества»[163]. Любопытный пример работы над спектаклем (или инициации его замысла) приводит Извеков:
«Во время гастролей Московского Художественного театра в помещении тогда еще «Суворинского» театра шла пьеса М.Горького «На дне». За кулисами на высокой стремянке был укреплен дуговой прожектор... светил на сцену, создавая впечатление солнечного луча. Но был у этого прожектора незначительный и незаметный недостаток: в его рефлекторе была дырочка, через которую прорывался луч света и образовывал на ближайшей кулисе маленькое световое пятнышко, игравшее всеми цветами радуги.
—Отчего это получается?—спросил Константин Сергеевич, внимательно рассматривая пятнышко. Он играл Сатина и, выйдя за кулисы... как был в гриме и костюме, так и остановился против той кулисы, на которой играло цветное пятнышко.
...В следующем антракте К.С. опять заговорил с Н.П.Бойцовым на ту же тему...
—... Вот увидите... я его применю и использую!
Каково же было удивление Николая Петровича, когда через некоторое время на гастролях МХАТа в том же театре ему пришлось работать с освещением «Синей птицы». Случайное радужное пятнышко за кулисами «Суворинского» театра превратилось в первой картине «Синей птицы» в сотни движущихся камешков самоцветов, которые нарядными цветовыми точками разбегались по всей сцене»[164].
В использовании этого нового приема можно было пойти по пути его аттракционных свойств. Этого не произошло, потому что авторы спектакля ставили перед собой более высокого уровня творческие задачи. Это конец 1900-х, это новый уровень светотворчества. В 1895 году успехи были скромнее, по-видимому, но все-таки мы должны по достоинству оценить то, что было сделано русской опереттой в области становления светодекорационного спектакля.
* * *
Движущаяся фотография и экранная проекция (правда, пока порознь) уже некоторое время сосуществуют с тем явлением, которое мы обсуждаем.
Еще в 1892 году на электрической выставке Малкиеля демонстрировался электротахископ Оттомара Аншютца и вызвал неудовольствие обозревателя «Новостей дня»; с его точки зрения, изобретение «призвано питать, подобно фонтанам (тут и Бауэру досталось.—К.В.), праздное любопытство, не удовлетворяя любознательности»[165]. И экранная проекция существовала в Москве до прихода синематографа Люмьеров, не где-нибудь, а в «Эрмитаже» Лентовского, незадолго до его закрытия—«остроумное нововведение в чисто американском духе: на одной из аллей сада, близ открытой эстрады, устроен экран, на котором при помощи волшебного фонаря показываются туманные картины вперемешку с объявлениями различных торговых фирм. Честь изобретения такого применения волшебного фонаря принадлежит, разумеется, искусным в деле рекламы янки: во многих американских городах такие экраны устраиваются на крышах больших домов. У нас экран устроен г. Декрозом—обрусевшим французом»[166].
Осенью 1895 года, то есть как раз когда готовилась постановка «Мадам Сан-Жен», на Тверской (угол Камергерского, в доме Толмачева), на выставке изобретений Эдисона в кинетоскопах демонстрировались сюжеты: «Выход Наполеона», «Карнавал», «Бой петухов», «Пожар», «Кузнецы», «Шотландский танец», «Гимнасты»[167]. «Театральные известия» добавили, что среди сюжетов есть фрагмент спектакля «Мадам Сан-Жен»![168] А весной 1896-го в Верхних торговых рядах с помощью кинетофона Эдисона можно было «не только слышать, но и видеть исполнителей»—за 30 копеек[169].
Сад «Гейтен», второй сезон которого в 1896 году был менее удачен, держался «на успехе синематографа Люмьера»[170]. «Новый Эрмитаж» не отставал: «Опять приглашен синематограф Люмьера, показывающий кроме обычных «житейских» картин также картины недавних торжеств в Москве. Все очень живо, жизненно и увлекательно. Особенно забавны те картины, на которых появляются знакомые москвичи...»[171]
Блюменталь-Тамарин использовал кинематограф в своих спектаклях, о чем пишет Янковский[172] и даже называет сюжеты: «Ручеек с плавающими лебедями и утками», «Сожжение сухой травы, которую поспешно сгребают несколько лиц и складывают в пылающий костер», «Борьба двух гимнастов, из которых один в сажень, а другой крохотный мальчик».
Кинематограф еще очень молод, и ему совсем не тесно в одеждах аттракциона. Однако некоторые приемы, которые мы в недалеком будущем обнаружим в его арсенале, уже отрабатываются на сцене. Здесь с появлением электричества возник монтаж, и даже на драматической сцене: «Н.А.Попов, режиссер театра В.Ф.Комиссаржевской, первым осуществил этот монтаж быстро сменяющихся сцен, возникающих из полной темноты в зале и на сцене»[173]. Представление сценической среды как объемной, как глубокого, активно работающего, созданного светодекорационными средствами пространства и проистекающая отсюда культура построения глубоких мизансцен (метод Бауэра)—все это освоено на сцене и перенесено в кино в готовом, отработанном виде. Это «сценическое кино» Блюменталь-Тамарина и Бауэра—живое, красочное, звучащее и эффектное—предпочитал зритель. Аттракциону, пришедшему весной 1896 года из Парижа—черно-белому, дрожащему, мигающему, немому—трудно было тягаться с аттракционом-монстром «блюменталевского приготовления», тем более что он использовал по окончании спектаклей и экранную проекцию. Что было первородиной русского дореволюционного кино: сюжеты Аншютца, Эдисона, Люмьеров или спектакли Блюменталь-Тамарина? Иезуитов, конечно же, был не прав, когда в анализе кинотворчества Бауэра утверждал, что «действие драмы развертывалось на фоне замысловатых павильонов, колоннад и зимних садов... Быть может, павильоны эти, как и многое в декоративном искусстве Бауэра, были навеяны итальянскими постановками»[174]. С этими «итальянскими» и «французскими» павильонами Бауэр разобрался еще в 1895-ом.
Модель русского светодекорационного спектакля, которому, по словам Янковского, не было аналогов на западноевропейской сцене[175], работает в фильмах Бауэра. Эффект «искусства в искусстве», разработанный на сцене, приходит в кино и, таким образом, становится уже тройным: неслучайно свет в лучших картинах Бауэра излучается самим воздухом съемочного павильона. Колонны Бауэра, о которых, по словам Иезуитова[176], ходили анекдоты, насыщали воздух многочисленными сочетаниями световых рефлексов. Оптический спектакль, этот жанр-призрак, несколько десятилетий царивший на русской опереточной сцене, Е.Ф.Бауэром зафиксирован, «пойман» на кинопленку.
В заключение обозначим границы русского светотворчества: с 60-х годов XIX века до 10-х XX века. Фильмы Бауэра—завершающий этап и его индивидуального световорчества, и светотворчества как самостоятельного явления русского искусства.
1. Изучение раннего периода творчества Е.Бауэра, предпринятое нами ранее, нельзя признать удовлетворительным, но можно назвать полезным. См.: К о р о т к и й В. М. Евгений Бауэр: предыстория кинорежиссера.—«Киноведческие записки», № 10 (1991); К о р о т к и й В. М. Возвращаясь к публикации о Бауэре, или Методология одной ошибки.—«Киноведческие записки», № 12 (1991). Путаница с двумя Е.Ф.Бауэрами остается. Посмотрим именной указатель третьей книги академического издания «Русская художественная культура конца XIX—начала ХХ века» (М., 1977). Против имени «Бауэр Е.Ф.»—большинство отсылок к статье С.Гинзбурга «Дореволюционный кинематограф как вид массовой художественной продукции» и одна—к статье А.Альтшуллера и Ю.Герасимова «Театр русской провинции»; С.Гинзбург пишет, разумеется, о нашем кинематографическом Бауэре. Из разговора с А.Я.Альтшуллером я узнал, что авторы статьи свои данные о Бауэре Е.Ф. черпали из рукописи П.М.Клинчина, которой руководствовались и мы (см. «Киноведческие записки» № 10, 12), то есть в их статье речь идет о Бауэре-калужском. В именном указателе две персоны слились в одну.
<…>
47. В 1898 году в доме Шелапутина открылся Новый театр под руководством А.П.Ленского. «Шелапутинский... театр, соседствующий с Малым, всегда переполнен и становится угрозой материальному благополучию императорской сцены. Московская дирекция императорских театров решается на стратегический шаг: она берет в аренду Шелапутинский театр на десять лет, а Блюменталь-Тамарин со своей труппой вынужден перейти к Парадизу» (Я н к о в с к и й М. О. Оперетта. М., 1937, с. 303).
48. «Новости дня», 1894, 17 октября, № 4075, с. 3.
49. «Московский листок», 1894, 17 октября, № 289, с. 3.
50. «Театральные известия», 1894, 21 ноября, № 45, с. 1.
51. «Будильник», 1894, 28 сентября, № 38, с. 11.
52. «Будильник», 1894, 16 февраля , № 7, с. 6.
53. Траур в связи с кончиной Александра III продлился с 21 октября по13 ноября 1894 года.
54. «Новости дня», 1894, 17 октября, № 4075, с. 3.
55. «Московские ведомости», 1894, 18 ноября, № 317, с. 5.
56. Там же, 1894, № 319, 20 ноября
57. Там же, 1894, 25 ноября, № 324, с. 5.
58. «Русский листок», 1894, 24 ноября, № 327, с. 2.
59. «Возрождение оперетки...» — «Русский листок», 1894, 27 ноября, № 330, с. 2.
60. «Московские ведомости», 1894, 29 ноября, № 328, с. 5.
61. «Московские ведомости», 1894, 30 ноября, № 329, с. 6.
62. «Русский листок», 1894, 30 ноября, № 333, с. 2–3.
63. «Новости дня», 1894, 1 декабря, № 4120, с. 3.
64. «Русский листок», 1894, 30 ноября, № 333, с. 2–3.
65. «Московские ведомости», 1894, 30 ноября, № 329, с. 6.
66. «Новости дня», 1894, 1 декабря, № 4120, с. 3.
67. Там же.
68. «Новости дня», 1894, 21 декабря, № 4140, с. 2.
69. «Московские ведомости», 1894, 29 ноября, № 328, с. 5.
70. «Русский листок», 1894, 9 декабря, № 342, с. 30. О Наврозове Федоре Николаевиче см. свидетельство Н.А.Попова о постановках Общества литературы и искусства: «Художник императорских московских театров, ученик Вальца… Это был старый, опытный ремесленник-декоратор с больше чем не тонким вкусом... его работа казалась убогой после декораций Сологуба и Коровина».— В сб.: О Станиславском. М.: ВТО, 1948, с. 197–198, с. 244. О Д.Феоктистове и А.Борегаре данными не располагаем.
71. Р о д я.—«Русский листок», 1894, 11 декабря, № 344, с. 2.
72. Немчиновка—театральный зал в доме Немчинова на Поварской (угол Мерзляков-ского переулка) не сохранился. Об освещении этого небольшого театра (Влас Дорошевич называл Немчиновку и Мошнинку «театры-табакерки») писала «Театральная жизнь» в 1885 году: «вечные сумерки на сцене», «газовые рожки не позволяют выдвинуться за борт ложи» (19 января, № 33, с. 1). В начале 1890-х помещение театра арендовалось Обществом искусства и литературы. Позднее назывался «театр В.Н.Гирш», по-видимому, по имени нового владельца дома («Русский листок», 1902, сентябрь, № 248, 250, 267, 268, с. 3). В 1905–1906 годах здесь размещалась Первая студия МХТ.
Мошнинка—театр в доме В.П.Мошнина в Каретном Ряду. В начале 1880-х годов здесь работал Артистический кружок, Г.Парадиз давал немецкие спектакли. В 1888 году «Театральная жизнь» писала о «газовом зловонии, которым пропитан театр» (6 декабря, № 212, с. 2–3). В начале 1890-х в театре помещалось кафе-шантан «Виоль» по имени арендатора. См. также прим. 34.
73. «Все декорации и сооружения в манеже исполнены художником П.Ф.Лебедевым и архитектором Е.Ф.Бауэром; последнему... принадлежит нововведение—большая трапеция для гимнастов» («Новости дня», 1893, 26 декабря, № 3782, с. 3).
74. Гейтен Лидия Николаевна (1857–1920)—танцовщица, ученица Московского балетного училища (1870–74), с 1874 года—в Большом Театре. Оставила сцену в 1893 году.
75. Г и л я р о в с к и й В. Собрание сочинений в 3 томах. Т. 1. М., 1960, с. 422–424.
76. См.: В и т е н з о н Р. Анна Бренко. Л.: «Искусство», 1985, с. 47.
77. Г и л я р о в с к и й В. Указ. соч.
78. С е р п о л е т т и А. З. Московские увеселительные сады. Очерк.—Рукописный отдел театрального музея им. А.А.Бахрушина, ф. 533, л. 39.
79. Неприсяжный рецензент [В.Д.Левинский].—«Будильник», 1892, 26 июля, № 29, с. 5. Главач Войцех Иванович (1849–1911)—русский артист, дирижер, композитор. С 1871 года в России: органист Мариинского театра, дирижер симфонических и духовых оркестров в Петербурге, Москве и других городах. Среди сочинений: комическая опера «Облава» (клавир 1879), 4 рапсодии на народные песни и др.
80. Неприсяжный рецензент [В.Д.Левинский].—«Будильник», 1895, 2 апреля, № 12, с. 5. Сестры Евгения Бауэра—вероятно, Зинаида и Мария. О них и об их отце см. К о р о т к и й В. М. Указ. соч, с. 44–46.
81. «Новости дня», 1895, № 4271, с. 3.
82. Сведений об оперетте «Морской кадет» и об ее авторе обнаружить не удалось.
83. «Новости дня», 1895, № 4274, с. 2.
84. «Московские ведомости», 1895, 7 мая, № 124, с. 4.
85. «Новости дня», 1895, № 4292, с. 3.
86. Мунштейн Леонид Григорьевич (1867–1947)—журналист, критик, драматург. С начала 1920-х годов в эмиграции.
87. L o l o.—«Новости дня», 1895, № 4294, с. 3.
88. «Новости дня», 1895, 15 июня, № 4314, с. 3.
89. Шарпантье (Леонов) А.Л. (1845-1911)—певец (тенор), пел на оперных сценах Москвы и Петербурга. С успехом выступал в оперетте в столицах и провинции.
90. «Русский листок», 1895, 26 июля, № 205, с. 3.
91. Там же.
92. «Новости дня», 1895, 25 июля, № 4354, с. 3.
93. Там же, 1895, № 4352, с. 3.
94. Там же, 28 июля, № 4357, с. 3.
95. Главным режиссером в саду «Гейтен» был П.И.Владыкин (ум. 1911), провинциальный актер и режиссер. О нем см.: П е р е с т и а н и И. 75 лет в искусстве. М.: «Искусство», 1962, с. 62, 64, 69, 206.
96. «Новости дня», 1895, 18 июля, № 4347, с. 3.
97. «Русский листок», 1895, 19 августа, № 229, с. 3.
98. «Новости дня», 1895, 18 августа, № 4379, с. 3.
99. Там же, 1895, 4 сентября, № 4395, с. 3.
<…>
157. К а р н е е в М. В. Указ. соч., с. 11–12.
158. 1-й.—«Театральные известия», 1896, 27 сентября, № 204, с. 1.
159. К у л е ш о в Л. Собрание сочинений в 3-х тт. Т. 2. М.: «Искусство», 1988, с. 58.
160. Я н к о в с к и й М. Указ. соч., с. 303.
161. Ц и в ь я н Ю. Г. Историческая рецепция кино. Кинематограф в России 1896–1930. Рига: «Зинатне», 1991, с. 208–212.
162. Там же, с. 210.
163. Р о с т и с л а в о в А. В кинематографе.—В кн.: В башне. СПб., 1907. / Цит. по кн.: Ц и в ь я н Ю. Г. Указ. соч., с. 211.
164. И з в е к о в Н. П. Искусство художника-осветителя. Л., 1940, с. 19–20.
165. «Новости дня», 1892, 31 июля, № 3271, с. 2.
166. «Театр и жизнь», 1892, 19 мая, № 42, с. 1.
167. «Новости дня», 1895, № 4422, октябрь, с. 3, № 4439, с. 3.
168. «Театральные известия», 1895, 25 октября, № 227, с. 1.
169. «Новости дня», 1896, 28 апреля, № 4628, с. 1.
170. «Будильник», 1896, 9 июня, № 22, с. 5.
171. «Будильник», 1896, 28 июля, № 29, с. 5.
172. Я н к о в с к и й М. О. Опереточный театр.—В кн.: Русская художественная культура конца ХIХ—начала ХХ века (1908–1917). М.: «Наука», 1977, с. 384.
173. Г а р д и н В. Р. Воспоминания. Т. 1. М., 1949, с. 39. Н.А.Поповым использовался так называемый принцип мюнхенской «двойной» сцены. Подробнее об этом см.: История русского драматического театра. Т. 7. М.: «Искусство», 1987, с. 291, 295.
174. И е з у и т о в Н. М. Киноискусство дореволюционной России.— Вопросы киноискусства. Вып. 2. М., 1958, с. 287.
175. Я н к о в с к и й М. О. Оперетта. М.: «Искусство», 1937, с. 291–292, 302–306. Уместно здесь привести замечание В.Д.Левинского о гастролях в Москве Венской оперетты «Карл-театра», где главное внимание было уделено отделке ролей, пластики, пения, «мало внимания на внешний свет и блеск; в русской оперетке, наоборот, выдвигается внешний блеск, роскошная обстановка и излишний «шум», которые стушевывают искусство и артистические дарования «исполнителей»» («Будильник», 1898, 15 марта, № 11, с. 5). Много позже, в 1924 году в Вене, О.П.Грекова-Дашковская побывала в «Театр ан дервин» на спектакле «Графиня Марица» по оперетте И.Кальмана и сделала вывод о том, что «в целом постановка... оказалась очень примитивной, и только ее музыкальная часть... была на большой высоте» (Г р е к о в а - Д а ш к о в с к а я О. П. Старые мастера оперетты. М.: «Искусство», 1990, с. 181).
176. И е з у и т о в Н. М. Указ. соч., с. 286.
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.