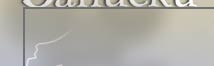|
 |
|
Зигфрид КРАКАУЭР
переводчик(и) Анастасия ТИМАШЕВА
Зигфрида КРАКАУЭРА (1898–1966), одного из крупнейших историков и теоретиков кино, нет нужды представлять нашему читателю. Его фундаментальные исследования «От Калигари до Гитлера. Психологическая история немецкого кино» (первое издание: 1947) и «Природа фильма. Реабилитация физической реальности» (1960), вышедшие в русском переводе в середине 70-х годов, прочно вошли в мыслительный обиход нашего киноведения и на протяжении последующих десятилетий — вместе с переведенными ранее теоретическими трудами Белы Балаша и Андре Базена — побуждали к продуктивному диалогу отечественную теоретическую киномысль. В 1991 году «Киноведческие записки» опубликовали также первую часть его первого исследования о кино «Пропаганда и нацистский военный фильм», осуществленного Кракауэром в эмиграции в 1941 году в качестве стипендиата в отделе кино Музея современного искусства в Нью-Йорке.
Если Кракауэр-социолог, историк и теоретик кино достаточно известен у нас, то абсолютно неизвестен Кракауэр-кинокритик и эссеист, между тем его статьи и рецензии 20-х — начала 30-х годов, когда он активно сотрудничал в немецких газетах (главным образом во «Франкфуртер цайтунг») — не менее содержательная часть его литературного наследия, с которой российский читатель до сего времени не имел возможности познакомиться (если не считать опубликованной в «Киноведческих записках», № 23, его заметки 1930 года «Цензурный комитет против русского фильма» — о «Земле» Александра Довженко). Мы намерены восполнить это пробел, начиная публикацию газетных статей и рецензий Зигфрида Кракауэра 20–30-х годов подборкой, посвященной французскому кино.
АБЕЛЬ ГАНС И ЕГО ФИЛЬМ «КОЛЕСО»
Творения Абеля Ганса, возникшие на заре немого кино, — продукт необузданного духа, дающего буйные побеги, как какое-нибудь тропическое растение, и забывающего о концепции в погоне за грандиозными эффектами. Но так же, как в речной грязи скрывается золото, так и среди куч сора в картинах Ганса отыскивается масса смелых и новых формулировок. Красота и безвкусица, истинный смысл и пустая напыщенность у него нераздельно связаны.
С исторической точки зрения особенно интересно «Колесо», знаменитый, законченный в 1922 году фильм Ганса, органично сочетающий в себе элементы, устремленные в будущее и накрепко привязанные к прошлому. Своеобразие картины состоит именно в том, что она наглядно показывает, откуда берется кинопроизводство и в каком направлении развивается.
Что касается сюжета фильма, то заметим лишь, что он развертывается вокруг любви машиниста Сизифа к своей приемной дочери Норме и его соперничества с собственным сыном Элиэ, которому принадлежит сердце, но не рука Нормы: ее она отдает инженеру по имени Эрзан. Ганс не был бы Гансом, не выведи он из этой истории целую череду фатальных последствий: Сизиф слепнет, Эрзан и Элиэ убивают друг друга, а Норма сходит с ума. И ей это нельзя поставить в вину.
Несмотря на душещипательность фабулы, ее можно было бы запросто обойти вниманием, если бы ее театральные черты не определили изобразительное решение фильма. Картина тем более является свидетельством отжившей эпохи, что все ее герои разыгрывают театральное представление.
Ганс еще не знает, как актеры должны вести себя в кадре. Вместо того, чтобы свести жестикуляцию в крупных планах до минимума, он использует крупный план как раз для того, чтобы подчеркнуть мимическую выразительность героев, так что публике приходится наблюдать за их игрой в мельчайших деталях. Наигрыш компенсируется разве что расстоянием между экраном и залом. Все действующие лица за исключением истопника, который, впрочем, пришелся к месту в картине только за счет своей второстепенности, выражают свое внутреннее состояние неестественными гримасами и патетическими жестами. Да и в остальном Ганс не в силах справиться с гнетом определенных, свойственных Франции традиций, связанных с театром и живописью, но противоречащих особым требованиям киноискусства. Он любит монументальные сцены: сидящая Норма напоминает Медею; силуэт старого слепого Сизифа, стоящего у могилы Элиэ, выделяется на фоне неба этаким роковым предзнаменованием. Ганс не скрывает и склонности к мелодраматическим эффектам: в его картине разбившийся в аварии локомотив оплетают цветы, а человеческая трагедия разворачивается на фоне пустынных горных ледников. Сегодня подобные сцены кажутся если не безвкусными, то по крайней мере комичными.
Эти наивные приемы необычайным образом сочетаются с потрясающими кинонаходками. Сам по себе выбор железнодорожного ландшафта в качестве фона для происходящих событий великолепен; вдобавок к этому Гансу удается удивительно точно и полно воплотить этот мир на экране. Рельсы, туннели, облачка дыма, поезда и сигнальные лампы создают атмосферу картины, они окружают садик Сизифа, виднеются в каждом окне, наполняют собой ночь и день и всплывают бесконечной чередой картин (вспомнить хотя бы незабываемое прибытие локомотива на туманный парижский вокзал). Потрясающим впечатлением, которое производит этот ландшафт, мы обязаны техническому совершенству, которого и сейчас поискать. Ганс, один из пионеров в кино наряду с Гриффитом, с чарующей уверенностью пользуется всеми достижениями современного ему кинематографа; прежде всего его изобретательность проявляется в монтаже. С помощью всевозможных бленд, безостановочной смены крупных и дальних планов, освещения и положения камеры Ганс выражает решительно все, что ему нужно, и до сих пор удивляешься, видя, как он сумел создать впечатление убыстряющего ход локомотива, чередуя перекрещивающиеся рельсы и отсвет пылающего в топке огня на стенах туннеля с показом манометра и множества лиц.
В одном из своих ранних короткометражных фильмов Чаплин сыграл помощника на киностудии, развлекающегося тем, чтобы выставлять в смешном виде актеров, занятых в костюмированном историческом фильме и переносящих в кино театральные замашки («Его новая профессия»). Так же и Ганс пытается найти для нового вида искусства соответствующий ему стиль, но, в отличие от Чаплина, сознательно порывающего с механическим перенесением в кино чужих традиций, он в своих лентах отдает предпочтение театральным выразительным средствам, сам того не понимая. Своеобразие его творчества — в том, что оно все еще говорит на чуждом кино языке и в то же время предвещает шедевры зрелого немого кинематографа.
(1939)
«ПОД КРЫШАМИ ПАРИЖА»
Моцартовский зал превратился в звуковой кинотеатр, стены которого сплошь обиты кроваво-красной материей. Кажется, это сделано для улучшения акустики. Вчера новоиспеченный кинотеатр открылся премьерой звукового фильма Рене Клера «Под крышами Парижа». К счастью, французскую редакцию произведенной по технологии Тобис картины менять не стали и ограничились тем, что предпослали ему коротенький немецкий доклад о звуковом кино, который сделал Иоахим Рингельнатц. Рингельнатц мне нравится, но доклад был явно лишним. Картина, с неизменным успехом идущая в Париже вот уже три месяца, говорит сама за себя.
Сценарий написал тот же Рене Клер. Действие фильма разворачивается в атмосфере парижской повседневной жизни; главные герои — уличный певец, которому Альбер Прежан сообщает почти аристократические манеры, девушка (в исполнении Полы Иллери — нечто среднее между барышней и кокоткой) и шикарный барин с черной бородкой (Гастон Модо). Однако главных героев здесь вычленить трудно: своя, особая роль есть и у городских улиц, и у Bals musettes (места для танцев, где танцуют под аккордеон — прим. пер.), и у мансард под крышей. Не одни только люди способны любить и ненавидеть: кажется, что город любит и ненавидит с ними. Они облачены в этот город, как в костюм, который никогда не снимают. Никому не известный писатель, толстая мадам-буржуа, полицейские и вор-карманник — в них во всех живет Париж. Его повседневная жизнь — больше, чем просто фон, это движущая сила интриги. В нем рождаются события и в него же и возвращаются; эта черта — отличительная особенность фильма. Рене Клер относится к французскому авангарду. Этой весной мы видели его картину «Антракт», преображавшую будничную действительность по строгим законам фантазии. В этом новом фильме обычная жизнь представлена в более общих чертах, а череда событий выстроена так, что понимать их можно буквально. Поэтому Рене Клер отрывается от поверхностной сути явлений и расчерчивает ее своеобразным узором. Не действие разыгрывается в Париже, а Париж разыгрывает это действие; оно не происходит само по себе, а является лишь отражением других, потаенных процессов и словно случайно выходит на тротуары, в закусочные и темные лестничные пролеты.
Революционные воззрения авангарда повлекли за собой сюрреалистический взгляд на обыденные явления. Подрыв старых форм искусства якобы должен был предвосхитить и отразить крушение привычных устоев обывательского бытия. Однако оказалось, что обывательское бытие достаточно крепко стоит на своих позициях, и эстетическая деструкция постепенно превратилась в изящную зарисовку. Оппозиция обществу обернулась романтической любовью к апашам и гулящим девкам; Рене Клер тоже отдает им дань и находит убежище в их социальной отверженности, как в оазисе. Это своего рода отступление: Клер отказывается от бунтарства, его борьба с буржуазными устоями оказывается не вполне серьезной. Его резигнацию подтверждает сентиментальность, переполняющая картину: сентиментальны любовные чувства, да и печаль чересчур слащава. Мощь общественных и эстетических традиций подавила восстание авангарда и придала ему миловидный и безобидный облик.
Пусть фильм снят в романтической манере, но все же эта манера умело использована и расцвечена оригинальными находками. Упомяну только о превосходной кинозарисовке про воздействие шлягера на людей. Взгляд ползет по фасаду неприглядного дома: на каждом этаже обитатели напевают, насвистывают и мурлыкают припев песенки. Потом опять идут знакомые кадры: шагающие ноги, вид переулка сверху, фрагменты зданий. Полунасмешливые зарисовки странного мира, в котором люди и вещи соприкасаются, влекут и ласкают друг друга. Ирония здесь не становится определяющим принципом и поэтому переходит временами в простую тягу к красивости. В картину закрадываются и сцены, слишком растянутые, чтобы быть безобидными, как, например, сцена в постели между уличным певцом и девицей; эпическая неспешность нарушается из-за желания гармонично объединить отдельные моменты с более длинными промежутками времени; картина перегружается ненужными отступлениями. Все эти недостатки — следствие того, что режиссеру неясен его же собственный принцип.
«Под крышами Парижа» — звуковой фильм, и наши режиссеры могли бы поучиться у его создателей искусству монтажа. Монтаж в картине соответствует тем требованиям, о которых я говорил неоднократно. Здесь не играют в театр и не отказываются от того нового, что было найдено немым кино в его лучшие годы. Скорее наоборот: слово и кадр здесь подчинены друг другу. В то время как в немецком звуковом кино власть обычно захватывает слово, сковывая этим свободу камеры, у Клера глаза и уши уравниваются в правах. Его фильм просто не мог быть немым, прежде всего из-за особой роли песенки; но ему удается сделать так, чтобы сменяющиеся в кадре лица не стали иллюстрациями к диалогу. Верная пропорция достигается за счет того, что слово появляется лишь в определенные моменты, а в остальном подменяется подходящим к ситуации музыкальным сопровождением. Взгляд может беспрепятственно перемещаться от дымовых труб на крышах к поющей толпе внизу — тем легче настроиться на восприятие необходимых для развития действия диалогов. Умение столь тонко просчитать это соотношение будет одной из главных задач кино в ближайшее время.
(1930)
РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
В новом фильме Рене Клера «Свободу нам!», премьера которого недавно состоялась в Моцартовском зале, действие не связано ни с определенной атмосферой, ни с каким-либо событием: здесь сатирически обыгрывается тема рационализации. Итак, здесь ставится проблема, но решается она как-то легкомысленно. На новой фабрике в стиле Ле Корбюзье рабочие на конвейере производят грампластинки, а изюминка заключается в том, что их существование беспрестанно сравнивается с тюремным. Иронию в отношении механизации еще можно было бы понять, не представь Рене Клер бродяжничество в качестве идеала, противопоставленного работе на рационализированном предприятии. И действительно: оба героя, обязанности которых состоят в том, чтобы направлять конвейер ad absurdum, — это некие модернизированные эйхендорфские лентяи, предпочитающие шляться по дорогам, валяться в траве и влюбляться в девушек. Противопоставлять подобное романтическое времяпрепровождение рационализации значит легкомысленно относиться к серьезному предмету. Мне кажется, что Рене Клеру просто не следовало поднимать проблему, которая не позволяет с собой шутить. Единственным обстоятельством, хоть как-то объясняющим это рискованное предприятие, можно считать то, что Клер как француз не в состоянии понять, что механизация труда давно уже стала для нас частью повседневности и подобная поэтическая чепуха только приводит нас в недоумение. В любом случае картина однозначно доказывает, что Франция до сих пор остается своего рода оазисом Европы.
Все же Рене Клер наделен остроумием, и временами его сатира, нас затрагивающая мало, переходит в черный юмор — например, когда он показывает, что столь хорошо продуманный и отлаженный ход работы на фабрике застопоривается при малейшей человеческой ошибке. Стоит на минуту забыть о своих, пусть даже незначительных, обязанностях — и конвейер моментально останавливается, возникает полная неразбериха. Прелестна и ирония, с которой изображаются безрассудные певцы рационализации. Рене Клер ловит их на слове и с издевкой изображает жизнь рабочих, освобожденных машинами от всякого труда, в радужных красках, как вечные каникулы.
К счастью, художественный элемент здесь не только преобладает, но и затмевает проблематику. Красочное изображение житейского мещанства, самодовольной посредственности и чиновников-бюрократов — вот в чем сила Рене Клера. «Рационализация» изобилует сценами такого содержания: собрание у генерального директора, официальное торжество, достойные участники которого в момент теряют свое достоинство и с жадностью набрасываются на сыплющиеся с неба банкноты — с каким мастерством это сделано!
Рене Клер, как никто другой, использует художественные средства звукового кино. Он мыслит картинами и звуками, через них выражает свои идеи. Этот новый фильм, как и все предыдущие, делает большой шаг вперед в обращении с речью: она не исключается совсем, но вставляется в те сцены, где все понятно и без слов. Не текст разъясняет происходящее, а, напротив, само действие растолковывает его смысл. Таким образом, устроенная картина почти не нуждается в переводе на другие языки, так что отказ от немецких субтитров вполне оправдан.
(1932)
НОВЫЙ КИНОПРОДУКТ
«Грета Гарбо заговорила по-немецки» — эта рекламная фраза теряет всякую привлекательность, если услышать Грету Гарбо в картине «Анна Кристи». Ее глубокий низкий голос не подходит к ее облику, пусть даже это отрицают другие, зачарованные ее красотой. Больше того, ее актерские возможности оставляют желать лучшего. Она должна сыграть проститутку, курящую, пьющую и потрепанную; но кто же поверит в ее падение, хоть бы она и говорила презрительно: «Вздор», — тупо уставившись в пустоту? Приходится расплачиваться за то, чтобы быть безупречным идеалом всего мира: обязанность олицетворять саму красоту плохо сочетается с плотским началом. Сам по себе фильм — наивная чепуха из жизни моряков, заказанная Жаку Фейдеру*. В нем есть пара приличных сцен. Вот и всё.
(1931)
КИНОЭКСПЕРИМЕНТ КАРНЕ
«Забавная драма» — так называется этот странный фильм. Снятый по мотивам одного английского романа, он нарушает, кажется, все законы, непререкаемые для примерных режиссеров. Есть ли в нем действие? Если и да, то он его не придерживается и постоянно импровизирует, следуя любой прихоти, зачастую уводящей от темы. Ему вообще не хватает логики и благовоспитанности: он, как мальчишка, пугает людей, чтобы посмеяться над их испугом, и со скоростью молнии меняет стилистику. Увлеченный детективной интригой, не успеешь оглянуться, как уже смотришь бурлеск или мелодраму.
Лондон, где происходит действие, заставляет вспомнить Диккенса, «Оперу нищего» и Гран-Гиньоль, он населен существами, ни одно из которых не назовешь заурядным. Ботаник, превратившийся в исполнении Мишеля Симона в персонаж в духе Гофмана, выращивает мимозу и одновременно, прикрываясь псевдонимом, пишет популярные романы ужасов; истеричный преступник, из любви к зверюшкам убивающий одних мясников; изнеженный молокосос, мечтающий изменить мир; епископ (Луи Жуве) и Франсуаза Розе в роли пожилой расфуфыренной горожанки — все персонажи этого фильма словно сбежали из кунсткамеры. Мало того, в них во всех будто бес вселился, вконец выбивая их из колеи. Внезапно они начинают совершать неожиданные поступки, менять окраску, как хамелеоны, и пространство картины заполоняет вереница гротесковых сцен, в бешеном темпе сменяющих друг друга. Вот пример: плут, посланный за букетом цветов, не находит лучшего способа выполнить поручение, как выслеживать самых щеголеватых прохожих, наносить им удар по голове и вынимать у них цветок из петлицы.
Хорош этот фильм или плох? Он представляет собой интересный, хотя и чересчур далеко зашедший эксперимент, не лишенный нескольких оригинальных находок.
(1937)
МРАЧНАЯ ИСТОРИЯ И ВЕЛИКИЙ РЕЖИССЕР
Свою картину «Человек-зверь» Жан Ренуар снял по одноименному роману Золя — мрачной книге, повествующей о пагубном воздействии на потомство пристрастия к выпивке и иллюстрирующей эту идею ни больше ни меньше как двумя убийствами, одним покушением на убийство и самоубийством. Фильм производит тяжелое впечатление и в этом смысле продолжает линию, начатую Фейдером в его «Терезе Ракен», где напряжение создавалось за счет описательных сцен, в то время как от театральных эффектов режиссер отказался. Так и нужно делать: ведь в самой природе фильма заложена возможность развития, а не статика замкнутой в себе трагедии, развязка которой не предполагает дальнейших происшествий. Ренуар не был бы тем, кто он есть, если бы по-другому обращался с материалом, чем Фейдер. Прекрасно зная, что кульминационные моменты книги не могут быть таковыми в фильме, он отвлекает от них внимание посредством развернутых описаний, развивающих излюбленную в кино тему железной дороги. Трудно забыть путешествие на поезде в Гавр или внезапное появление из тьмы виадуков вокзальных платформ. Своей эпической силой эти эпизоды обязаны изобретательности, присущей Ренуару — мастеру изображения внутренних состояний через внешние эффекты. Приведу только один пример: Рубан, начальник станции, вынимает из тайника под половицей часы, снятые с убитого им любовника его жены, и идет в соседнюю комнату поговорить с Северин, не подозревая, что та, зарезанная, лежит на полу. Все это время зрители видят только его спину. Внезапно он останавливается в дверях, и цепочка часов на его руке начинает раскачиваться, а вслед за этим слышатся рыдания... Подобные сцены возмещают убийства и вопли. Упомяну только, что наряду с Симоной Симон и Жаном Габеном, верным своему излюбленному образу «bon mauvais garcon, в картине занят и сам Ренуар: своим Кабушем он внес в фильм дополнительный мимический нюанс.
(1939)
S i e g f r i e d K r a c a u e r. Kino. Essays, Studien, Glossen zum Film. /Herausgegeben von Karsten Witte. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1974.
*Фейдеру поручили только немецко- и шведскоязычные версии картины, первоначальным режиссером был Кларенс Л.Браун (прим. ред.).
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.