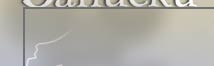|
 |
|
Евгений МИГУНОВ
Художник-постановщик, режиссер-аниматор, карикатурист и иллюстратор Евгений Тихонович Мигунов учился во ВГИКе в 1939–1943 гг. Он был одним из первых четверых выпускников художественного факультета, получивших специальность художника мультипликационного кино (ранее в институте обучения по этому профилю не было); его сокурсниками были Л.И.Мильчин, А.П.Сазонов и С.К.Бялковская. Все четверо в дальнейшем работали на киностудии «Союзмультфильм», причем Мигунов и Мильчин затем перешли к режиссерской деятельности—в соответствии с формулировкой дипломов: «режиссер-художник мультипликационного фильма».
В воспоминаниях Е.Т.Мигунова о годах обучения описывается поступление в институт (1939 год), знакомство с И.П.Ивановым-Вано и А.П.Сазоновым, начало обучения, первое ознакомление с производственным процессом на «Союзмультфильме», первые опыты студентов в изготовлении мультипликата, уход всего курса в ополчение летом 1941 года, участие в обороне Москвы, возвращение в столицу для продолжения обучения, производственная практика на студии осенью 1941 года (в том числе знакомство с Б.П.Дежкиным), отъезд со студией и институтом в эвакуацию, годы обучения, проведенные в Алма-Ате, поездки студентов с концертами по воинским частям и госпиталям, завершение обучения и защита дипломов, возвращение в Москву и начало работы на «Союзмультфильме» (1943 год). Все эти воспоминания записаны в трех рукописных тетрадях, однако не в хронологическом порядке. Так, в первой тетради описан рассказ об учебе в школе (МОПШК), поступлении в институт, первом визите на «Союзмультфильм», тыловых концертах Алма-Атинского периода, туда же вошли литературные «портреты» школьных и институтских педагогов (Березанской, Перышкина, Иванова-Вано, Богородского и др.). Вторая тетрадь содержит воспоминания периода с осени 1941-го примерно по 1945 год—практика на «Союзмультфильме», отъезд в эвакуацию, пребывание в Алма-Ате, возвращение в Москву, работа на «союзмультфильмовских» картинах «Краденое солнце» и «Зимняя сказка», общение с Б.П.Дежкиным и В.Г.Сутеевым и т.д. Большая часть этой тетради отдана личным воспоминаниям—любовным увлечениям с детства и женитьбе на Н.Р.Караваевой. Наконец, в третьей тетради описана «эпопея» институтского ополчения—лето 1941 года. Во всех трех тетрадях много страниц уделено А.П.Сазонову—другу и сокурснику Мигунова, оказавшему огромное влияние на формирование его как художника (Мигунов даже называл Сазонова своим главным учителем). Тематически к этим воспоминаниям примыкает также эссе о Л.И.Мильчине из тетради № 26, где описаны многие подробности студенческой жизни. Это эссе с некоторыми сокращениями было опубликовано в каталоге-альманахе Открытого Российского фестиваля анимационного кино 2000 года.
Такое тесное переплетение тем и неоднородный характер воспоминаний—личных и профессиональных,—а также позиция автора, настаивающего на изъятии при публикации наиболее откровенных фрагментов (он, к сожалению, уже не может сам редактировать тексты), да и большой объем этих безусловно ценнейших материалов, заставляет нас в данной публикации ограничиться небольшой частью текстов, относящихся к годам эвакуации ВГИКа в Алма-Ату. Следует оговориться, что представленная часть не исчерпывает не только «студенческой», но и собственно «Алма-Атинской» темы воспоминаний, и мы рассчитываем в будущих публикациях хотя бы частично восполнить этот пробел.
Приведенные тексты взяты из второй тетради «О, об и про…» (общее название всех тетрадей с воспоминаниями), датированной автором 1983 годом. Возможно, некоторые дополнительные приписки имеют более позднюю датировку, что характерно для записей Е.Т.Мигунова.
<…>
Быт и нравы
Студенты МАИ были жестокие и зажравшиеся. Это—по слухам. Ходил, например, слух о том, что одного бедолагу из какого-то другого института они втравили в спор. Ему на спор предлагали съесть два десятка... пирожных. Не запивая. Он—согласился. В общежитии МАИ свершилась экзекуция. Бедняга-студент сожрал эти два десятка (неизвестно, где и как раздобытых) кремовых, сытных пирожных и умер через час от каких-то процессов в желудке (так умирают долго голодавшие и неожиданно набросившиеся на пищу люди...).
Потом они, и тоже—по слухам, отправили на тот свет еще одного голодающего. На сей раз 10-ю плитками шоколада.
Мы с ними враждовали. Была очень эффектная драка в вестибюле ресторана «Джамбул». Коля Спичкин30—наш могучий и добрый сокурсник—одним ударом приостановил возникшую драку. Обидели его любимого «друга-закадыку» Вовку Агранова31. Было много шума, хряска от ударов, бестолковых стычек. Лупили щедро, от души—не зная, кого и за что. Били тех, кто бил. Но не своих, не тех, кого знали в лицо. И вдруг Коля, пригнув своего здоровенного противника за шею вниз, размахнулся до земли и поднял его снизу таким мощным ударом по сопатке, что тот... пробил затылком фанерную дверь (фанера была вместо стекла), у которой его застало возмездие. Злодей застрял глубже, чем по уши в раздрызганной и колючей дыре в фанере (в полнейшей статике!). Драка тут же прекратилась—настолько это удивило всех! Потом на всех—и своих и чужих—напал неудержимый, истерический смех. Ржали так, как будто бы ничего на свете смешней не видали! Потом совместными усилиями начали освобождать потерпевшего. Пришлось из дверных пазов вынуть весь фанерный лист и малый, тоже подхихикивая своей раскровавленной пастью, торча из фанеры, как из голландского жабо, ушел, поддерживаемый своими друзьями под руки, освобождаться из плена—куда-нибудь, где могли найтись подходящие инструменты...
* * *
Вообще, студентами дрались много и охотно.
Наверное, девать силы было некуда!
Но дрались не жестоко, а эффектно. И всегда после хохотали, а иногда и пили вместе с противниками. Но—бывали и исключения.
Процесс учебы—не запомнился. Он был неинтересным и служебным—по существу.
Основное было не научиться, а перебиться с нуждой и голодом и развлечься чем-нибудь. Чаще всего—это были просмотры, чаще всего—зарубежных фильмов. Просмотры устраивались в зале кинотехникума-школы не для студентов, а для «нужных людей», коих приглашала наша дирекция и профессура для поисков возможностей отоваривания и снабжения, а также для «блата» вообще.
Зал был большим и холодным. Поэтому не запрещалось и нам присутствовать в зале, где без нашего горячего дыхания приглашенные замерзли бы. Приходили и живущие неподалеку киношники-преподаватели. Многие картины смотрели по нескольку раз. Миловидный, с венчиком курчавых волос над выпуклым лбом, всегда чисто и щеголевато одетый блондин, сияющий золотым зубом и водянистой голубизной своих нахально-бесстрастных глаз—киновед Сергей Васильевич Комаров32—произносил перед сеансом простенькую и незамысловатую лекцию, на которую никто не обращал внимания (настолько она была всегда ординарна!). Начинался просмотр. Иногда бывал переводчик. Но чаще, на отборе фильмов, или предыдущем показе в помещении Киностудии, Комаров усекал диалоги и, делая вид, что знает язык, «самолично» «переводил» текст для гостей.
Одну из картин-детективов с участием Базиля Ратбона33 в роли Шерлока Холмса катали особенно часто. Комарову надоело ее «переводить» (но смотреть ее нам никогда не надоедало) и он однажды доверил «перевод» мне. Я, гордый поручением, с большим подъемом и смаком, немного улавливая английский текст, провел порученное мне дело. Сергею Васильевичу понравился проведенный эксперимент. Он сделал из него выводы. Я по его просьбе присутствовал с ними на предварительной прокрутке и часто самостоятельно «переводил» для нужных Комарову и дирекции лиц американ-ские и английские картины. Иногда переводил и немецкие—трофейные. Мне было все равно, хоть индийские. Потому что ни один язык я не знал, а содержание и сюжет усваивал с одной прокрутки. Большинство же студентов и студенток наших стали смотреть на меня с неким уважением, предполагая во мне полиглота. Новые картины, несмотря на их просьбы, я переводить не решался, находя уважительные причины для отсутствия.
Не хотелось их разочаровывать.
Дипломная работа
Период работы над дипломом оставил у меня самые горькие и постыдные воспоминания.
Я не обладал сколь-нибудь сформировавшимся художественным вкусом. Я уже писал об этом.
Но я был изобретателен. Любил деталь. Был силен в графической технике. Даже—по-ремесленному силен. Для меня (я тогда не догадывался о том, что это трудно) не существовало технических затруднений закраски, заливки, тональных переходов, отмывки, оттушевки, цветовых переходов, органики в сочетании цвета с контуром.
Я был очень хваток и восприимчив к тому, что уже было найдено другими. Я легко схватывал особенности и стилистику других художников. Быстро усваивал закономерности стиля. Причины цельности впечатления и его разобщенности при ошибке художника. Ежедневные Толины лекции и показы (при работе вместе над халтурой, курсовой работой и т.д.) воспитали во мне целый ряд профессиональных качеств. Но во многих отношениях я был эклектичен, случаен, незакономерен, не целен, не стратегичен! Привить это нельзя. С этим надо родиться.
И вкусик у меня был в общем-то—дешевенький.
Это сказалось и в выборе темы диплома.
Нам были предоставлены возможности выбора темы. Каждый мог взять то, что ему ближе, понятней, дороже, легче.
Я не знаю, почему я не выбрал ничего из классики или сказок. Ведь тогда были и есть сейчас чудесные основы для визуального воплощения. Многое найдено, нафантазировано, напридумывано и построено в единую сюжетную схему.
Юные, запутанные, дезориентированные мозговые извилины мои, которых, в сущности, еще и не было, не смогли нацелить меня на что-нибудь глубокое, философское, народное…
«Легкость в мыслях—необыкновенная!..». И я увлекся сочинительством. Мне мало было существующих сюжетов: «Золотой ключик», «Чиполлино»35, «Красная Шапочка», «Сказки» всех времен, народов, андерсенов и пр. Может быть, сказалось увлечение Диснеем, лихостью и безудержной фантазией, музыкальностью его короткометражек, упругой динамичностью и конструктивностью персонажей, пространственностью и натуралистической магией его декораций?.. Или, может быть, восторги от ритмики Фреда Астера, Джинджер Роджерс, Ширли Темпл, Билла Робинсона, Элеоноры Пауэлл? И восторженная каша в голове от всего этого? И увлечение ритмикой, ударными инструментами, синкопами, забившими простоту и безыскуственность спокойной классики?
Скорее всего—все это, вместе взятое. Дешевый дух времени с тенденциями эфемерности, поверхностности, легкости и бездумности…
Так или иначе—выбор надо было делать. Толя—тугодум и классик—без раздумий сразу назвал своей темой «Конька-Горбунка».
Конечно. Лучше не придумаешь. Я бы тоже с удовольствием схватил бы эту тему. Там—вроде бы все ясное и родное. С детства. С выжженных на фанерке и раскрашенных Ивана и Жар-птицы. С пеналов, на которых были билибинские пейзажи с контурованными облаками, околицей и закатами. С придурковатым и смешным «царем-батюшкой». Ну и так далее.
Но выбрал-то эту тему и заявил о ней—Толя! Ухватил—лучшее и единственное. Больше ничего подобного я не знал. Не зависть, а досада—как же я упустил это?
А он, оказывается, давно таил эту затею. Вынашивал ее в голове. Мечтал ее поставить. Так же, как и Вано.
Ну, а раз так, то и искать больше нечего! Не три же толстяка делать.
Раздумья и советы ни к чему не привели!
Что бы ни приходило в башку, а все—хуже! Не мог ничего посоветовать и «Иван Петров». Левка почему-то вместо мультипликационных фактур схватился за Шарля де Костера. «Тиль Уленшпигель»—это же ничего общего с мультипликационной природой! Но—взялся. Он, лихо и свободно фантазирующий карандашом, хорошо чувствующий романтику и смачность средневекового быта, почти машинально на лекциях рисующий все, что придет на ум: монахов, рыцарей, прекрасных дам, собачек и замки, грозовые пейзажи с падающими тяжелыми тенями, неистощимый фантазер, не повторяющийся ни в одном из рисунков-набросков, эдакий Моцарт пера,—берется за тему, которую вроде надо бы приспособить к специфике если не мульти, то вообще—кино.
Это должна быть—связная раскадровка, типажная и костюмная разработка, декорации, цветовое решение и т.д. Как же он справится с таким объемом?
Как сведет концы с концами?..
А может быть, он чувствует себя беспомощным там, где требуется определенность и последовательность, и поэтому уходит в хаос набросков и графических фантазий?..
Тоже—пища для размышлений!
Но хорошо, а что же делать мне? Я решаюсь.
Я буду делать все свое. И сценарий, и персонажик, и режиссерскую экс-пликацию, и все-все-все—свое! И музыку опишу. Не напишу, а опишу, какая она должна быть. В бессонницу нащупываю, конструирую схему—все по шаблону: борьба добра и зла, маленький против большого и сильного, помощь добру за услугу, ну и так далее. Персонажи—конечно, очеловеченные звери (так у Диснея, и—ничего!). Место действия—условный лес. Какие-то хижины в лощине.
Глуп был чрезвычайно. Но—так же самонадеян. И стихотворный диалог на музыкальной канве. Все свое. Смотрите, мол, какой я разношерстно-талантливый. Умею все!
Вано не стал меня разубеждать. Толя—тоже. Да меня уже и нельзя было разубедить. Я—увлекся! Особенно—стихами!
И настолько уверовал в правильность своей затеи, что заразил своим отношением и Вано…
…Толя насупленно и серьезно, вдумчиво и лаконично вгрызался в Ершова. Мне казалось—он делает не так. Слишком рафинированно, изысканно, слишком красиво и совсем не смешно трактует довольно смачную, с запахом дегтя и кислой капусты, сказку. Невероятно красиво исполняет раскадровку. Гнет стилизованные лебединые шеи коней. Рисует сухо, схематично, в строгом ритме разработанные композиции. Нет смака, нет дешевки. Она есть у Ершова в рифме, в подходе, в комизме реплик, в прозаизмах, доходящих чуть не до мата. А он—лакирует и героизирует все, возвышает, ставит на котурны…
…Нет. Я бы, если б завладел этой темой, делал бы все смешнее. И это было бы правильнее. И русского духа—нет. Расея-матушка, косопузая, криволапая, превращается в нечто холодное, чужое, космическое.
Толя сделал не всю раскадровку. По-моему, это и не входило в дипломное задание. Нужно было производственно обработать эпизод. Совсем не помню его больших эскизов и эскизов типажей. Может быть, он их не делал? А может быть, мне было не до того—своя рубашка была ближе к телу?.. Вот убей бог—не помню!
В этот период наши отношения, братские, семейные, как-то охладились. Мы были как бы в ссоре. Мало разговаривали. Молча рисовали. Ему о помощи просить было не нужно. Мне—гордость не позволяла!..
* * *
Я—пер напролом. Лез из кожи. Весело и мажорно трактовал персонажи: волка-злодея, в шляпе и ботфортах: сурка-суслика (черт знает—почему?) и его друга—Медведя.
По-профессиональному и довольно лихо нарисовал их повороты и ракурсы. Мимику и сравнительные таблицы.
Для смака в свободной сангинной технике на чуть подкрашенном кофе фоне-пятне сделал динамические рисунки персонажей специально для зрителей. Один из рисунков очень понравился Богородскому36, и он выпросил его у меня.
Раскадровка графически была сделана безукоризненно, хотя и с излишней по производству манерностью.
Режиссерский сценарий был сделан «как настоящий», и в дополнение к нему была написана «аннотация», в которой я с некоей серьезностью обосновывал свои взгляды на искусство мультипликации и выражал свои взгляды на музыку в фильме и т.д. Все это—претенциозно и псевдонаучно. Я думаю, что эта попытка теоретизирования изрядно позабавила С.М.Эйзенштейна—председателя Госкомиссии.
На защите (я защищался первым из нас) я вел себя независимо и нахально. Я почему-то верил в полный успех и в качество дерьма, которое в безукоризненном оформлении висело на стене.
Защита и Эйзенштейн
Как не очень точно вспоминает И.П.Вано в своей книге «Кадр за кадром»37, накануне защиты, при предварительном ознакомлении с экспозицией наших дипломов, С.М.Эйзенштейн, осмотрев бегло все представленное, видимо, остался доволен уровнем работ. Перед уходом—он спохватился, что оставил где-то, в одной из верхних комнат, шляпу.
Моя мысль сработала мгновенно. Я помчался наверх, у кого-то из студентов спросил клочок бумаги, карандашом написал на нем «Наше дело?..», положил его в шляпу и через несколько секунд протягивал ее Сергею Михайловичу.
Он поблагодарил меня, заглянул туда и увидел записку. Затем улыбнулся, посмотрел на меня лукаво и сказал «Конечно!» Этот замаскированный разговор не понял никто. Потом, после его ухода, я объяснил ребятам, которые меня окружили, что мэтр подтвердил: «наше дело—в шляпе!..» Ребята воодушевились...
Я слыл среди преподавательского состава и способным актером. На вечерах самодеятельности (профессиональной—все-таки актерский факультет!) я вел конферанс, читал стихи, выступал с пародиями и эпиграммами и даже танцевал с девками канкан! Было глупо, но смешно. Чтобы как-то разбавить официальщину процедуры защиты дипломов, во время защиты мной моего идиотского сценария и не менее идиотской «аннотации», где я анализировал роль синкопы в музыке, их комический эффект, проверенный впервые знаменитым скрипачом Люлли, и т.д., Вано подговорил Эйзенштейна проэкзаменовать меня по актерскому мастерству. Тот пошел на это. Он спросил меня, как я работаю над динамическими характеристиками персонажей. В чем моя метода? Я ответил, что сначала зрительно представляю себе поведение, походку персонажа, затем его рисую. Если не получается, проигрываю этот кусок сам. Анализирую, ощущаю, зарисовываю. Чувствую координацию и без зеркала, как бы видя себя со стороны.
«Ну, как бы двигался вот этот ваш симпатичный зверек?»—спросил Эйзенштейн. Я очень смешно, по-моему, изобразил. Все засмеялись. «А волк?»—спросил С.М. Я изобразил провинциального трагика—злодея! Понравилось и это! «Ну, а медведя?»—снова провоцировал меня на показ Эйзенштейн. Тут я допустил наглость. Я сказал: «Питания не та, чтобы изображать медведей, Сергей Михайлович. Если бы я был режиссером, я бы скорее пригласил Вас на эту роль!»... Сморозил!
Но Сергей Михайлович добродушно захохотал и сказал: «Вот если бы раньше—то да, а сейчас, пожалуй, и я не гожусь!» и оттянул брюки на животе. Все засмеялись—затравка была сделана. Все стало на свои места.
Мне был пожалован диплом режиссера-художника мультипликации. Проектировалось же только звание художника. Иногда, оказывается, полезна и наглость. Не чрезмерная!..
* * *
Между прочим, Эйзенштейн спросил меня на защите о моем взгляде на национальную стилистику мультфильмов. Я помню, что ответил ему довольно правильно, но уклончиво. Во-первых, я не задумывался об этом никогда (но этого я, конечно, не сказал!), а во-вторых (и это я сказал), в русском искусстве нет традиций в мультипликационном жанре. Просто потому, что не было мультипликации. А потом возможно будет нащупан путь от близкого по стилистике народного лубка. А потом и графики наши—Конашевич38, Лебедев39 и другие—тоже что-то не очень задумываются о народности своей графики. Вот разве—Ю.Васнецов40. А из более ранних—Билибин41. Но если С.М. хотел бы видеть отражение в мультипликации русского народного духа, то я рекомендую комиссии, покончив со мной (все засмеялись!), перейти к экспозиции моего талантливого коллеги А.Сазонова.
На этом с вопросом о моем отношении к народной русской стилистике было покончено.
* * *
...Толя защитился прекрасно. Но фурора его великолепная работа не произвела. Его вкус был явно выше вкуса принимающей инстанции...
* * *
Ура, ура, мы уже художники «Союзмультфильма», куда нас прикомандировали!42
<…>.
Мы едем!..
У нас с Толей был небольшой запас «капиталу». Мы смело, при моей инициативе и по рекомендации Вано, подработали, сделав «шапку» к трауберговской «Актрисе»47. Роскошные занавесы разных эпох и стилей, раздвигаясь постепенно—один за другим, служили фоном для титров. Занавесы—3х4 метра—мы выполняли в помещении студии. Не выходя, целую неделю, мы трудились над ними. Особенно хорош был на желтом репсе—античный: три богини и Парис. Под вазовую роспись. Коричнево-красные силуэты, орнамент, бронзовые детали—яблоко в руке Париса. Блеск, да и только. Занавес «дель-Арте»—цветные ромбы, да и все остальное—вызвало режиссерский восторг.
При съемке в павильоне (по-моему, снимал Коля Ренков—птушковский оператор48) мы сами раздвигали их при помощи катушек, плавно, один за другим. А операторскую тележку везли, пробиваясь через занавеси, два «Ивана»...
На экране ни хрена не получилось. Какие-то затененные тряпки с малопонятным изображением, которые к тому же полностью перекрывались надписями, сделанными мной при последнем издыхании—очень некачественно!
Но—деньги получили! На них и существовали во время работы над дипломом!
А потом ввязались еще в одну халтуру! Собственно, ввязался один я. Какой-то моложавый, с усиками и лысоватый архитектор вдруг зануждался в помощниках для работы по оформлению чего-то. Чего—не могу вспомнить. Помню, что я писал какие-то шрифты. Лозунги, цифры на планшетах. Помню, что он учил меня натягивать бумагу на подрамник, и главный его совет: «бумагу обязательно надо перекрестить!» И он мокрой ватой проводил перед общим смачиванием на бумаге крест по диагоналям. А потом в памяти его любимая песня (по-английски!):
«Ит из э`вери интерестинг хистори!
Ит из э`вери интерестинг хистори!
Май онкель Юба данс нур румба, данс нур румба!»
И—снова одно и то же в течение часа.
В переводе это означало: «Это очень интересная история. Мой дядя Юба танцует только румбу!..»—и снова то же самое!
Его самого потешала эта «интересная история»... Вообще он был славный парень. Помню еще, что в этой халтуре участвовал еще журналист Варшавский.
И еще помню, что работа эта делалась по заказу Обкома ВКП(б) и что за участие в ней нам с Толей обещали билеты на поезд в Москву! Почему именно нам с Толей?.. Сейчас объясню.
<…>
Снова в Москве!
...С трудом волоча два чемодана, с курткой под мышкой, с этюдником через шею, сопровождаемый двумя оборвышами с сидорами за плечами и с моим грузом—мешком с солью, парой дынь и еще чем-то, я хромал по перрону. Вдруг из однообразной серо-кишащей толпы встречающих и приезжих ко мне бросилась голенастая тощая фигурка. Она кинулась мне на шею и расцеловала. Прямо как в кино! «Рыжик! А где Толька?.. Па! Па!..—заорала она (это была Танька—Толькина сестра53),—Рыжий здесь!» Распихивая встречных, на меня выбежал и мой приемный папочка!..54 «Ну, наконец-то! А где Толька?..»
Прежде чем ответить, я изъял у провожающих меня шкетов груз. Сказал им от сердца: «Спасибо ребята, счастливой вам жизни!»...
Пантелеймон смотрел на них, ничего не понимая. Наконец, взор его остановился на Толькиной куртке, торчащей у меня из подмышки... Лицо его исказилось страхом и тревогой. «Что с ним?»—спросил он. Танька тоже—изготовилась плакать. Им стало ясно совершенно точно: я сбросил Тольку под поезд, чтобы завладеть его вещами и солью!.. «Он отстал в Рамен-ском!...—довольно неубедительным тоном сказал я.—Пошел, сволочь за пирожками! Зараза! Договорились—никуда не высовываться, а он—суккин сын!.. Блядь такая!» Я забыл о Таньке. Но речь моя, с точки зрения Пантелеймона, стала убедительной. Он поверил. Шкеты стояли, разинув рты, и не думали покидать меня в беде. Один даже пришел на помощь. Он сказал: «Вы что? Не верите? Блядь буду, землю мне есть, отстал. Наш один с ним был, едва успел, а этот ваш большой отстал. Ну, ничего, мы поможем!..». И эти благородные мои спутники проводили нас до трамвая... А может быть, мы шли до Кисловского пешком?..
У Сазоновых
Мама Лида55 не поверила тоже. Она была уверена, что мы скрываем от нее какой-то жуткий факт. Меня с подозрением и недружелюбно накормили. Я, насколько мог, точно и подробно рассказал и о болезни и об отъезде, и обо всех приключениях. Они верили всему, кроме одного: того, что Толька мог сделать такую глупость. Я выпил с Пантелеймоном поллитровку, окосел и заснул, не раздеваясь, в маленькой комнатушке.
Тольку я бил в жизни два раза.
Первый раз—еще до войны. Когда мы оформляли Дом кино к Новому году. Тогда он, не зная о чирье на моем подбородке, даже по-дружески, с похвалой, приставив к моему подбородку свой пудовый кулак, повернул его вокруг оси! Это был бы род дружеской ласки, если бы она не пришлась по чирью! Я взвыл и превратился в бешеный вихрь. Лупя его в хвост и в гриву, я загнал его на эстраду и там продолжал избивать, пока нас не разняли Серега Каманин56 и Левка Мильчин.
Второй раз произошел на следующее после моего приезда в Москву утро, когда я услышал спросонья гудящий бас своего, вернувшегося с первым же поездом, отставшего друга и брата.
Разнимали на этот раз родители...
Больше всего меня обидело, что мне не поверили. Что я успел походить в убийцах их родного сына.
Ну, что ж? Ко мне почему-то всегда были несправедливы. Наверное, потому, что я никогда не просил защиты...
<…>
31. Вульф Иосифович Агранов (р. 1918)—художник театра и кино. Заслуженный деятель искусств Украинской ССР (1980).
32. Сергей Васильевич Комаров (1905–2002)—киновед, доктор искусствоведения (1961). Во ВГИКе преподавал с 1932 года; с 1963 года—профессор.
33. Бэзил Ратбон (1892–1967)—англо-американский актер. Сыграл роль Шерлока Холмса в четырнадцати фильмах, поставленных в США.
34. О сборных концертах с участием студентов подробнее написано в первой тетради «О, об и про…».
Далее опущены отступления о характере тетрадных записей, их возможном назначении; о применении в жизни полученных в институте знаний; рассказ о разделении студентов по специальностям, о получении Мигуновым известия о кончине отца и реакции на него, об отношении к живописи и о дипломных живописных работах Мигунова и А.П.Сазонова—портретах сокурсников Анатолия Розена и Владимира Шределя—и их оценке.
35. Очевидно, ошибка. Сказка Джанни Родари «Приключения Чиполлино» появилась позднее.
36. Федор Семенович Богородский (1895–1959)—живописец, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1946), член-корреспондент Академии Художеств СССР (1947), лауреат Государственной премии СССР (1946). Преподавал во ВГИКе.
37. В воспоминаниях Иванова-Вано (см. прим. 2) на с. 120 неточно процитировано содержание записки Мигунова.
38. Владимир Михайлович Конашевич (1888–1963)—художник-график, Заслуженный деятель искусств РСФСР (1945). Работал в книжной иллюстрации, в т.ч. в детской книге.
39. Владимир Васильевич Лебедев (1891–1957)—художник-график, Народный художник РСФСР (1966), член-корреспондент Академии художеств СССР (1967). Один из ведущих представителей «ленинградской школы» советской книжной графики.
40. Юрий Алексеевич Васнецов (1900–1973)—художник-график, Народный художник РСФСР (1966), Лауреат Государственной премии СССР (1971). Автор эстампов, иллюстратор детских книг, в основном фольклорной тематики.
41. Иван Яковлевич Билибин (1876–1942)—график и театральный художник. Член «Мира искусства». Иллюстрировал русские сказки и былины.
42. Далее опущен фрагмент о взаимоотношениях Мигунова с А.П.Сазоновым, включающий рассказ о совместных аферах по подделке и отовариванию месячной «рабочей» хлебной карточки и по изготовлению и продаже фальшивых химических карандашей.
<…>
47. «Актриса» (1942)—фильм Л.З.Трауберга. Мигунов также делал титры к фильмам «Глинка» Л.Арнштама, «Первоклассница» и «Слон и веревочка» И.Фрэза.
48. Согласно титрам, оператором «Актрисы» был А.Н.Москвин, но не исключено, что Н.С.Ренков как специалист по комбинированным и трюковым съемкам принимал участие в съемке титров.
<…>
53. Танька—Татьяна Пантелеймоновна Сазонова (р. 1926)—дочь П.П.Сазонова, сестра А.П.Сазонова. Художник-постановщик анимационного кино.
54. Пантелеймон Петрович Сазонов (1895–1950)—режиссер-аниматор, художник. Отец А.П.Сазонова.
55. Лидия Витольдовна Сазонова (1899–1982)—жена П.П.Сазонова, мать А.П.Сазонова. Ассистент режиссера по монтажу, работала в анимационном кино и на радио.
56. Сергей Михайлович Каманин (1915–2002)—художник. Заслуженный художник РСФСР. Окончил ВГИК в 1943 году и тогда же стал преподавать в этом институте. С 1969 года—профессор.
Публикация, предисловие икомментарии Г.Н.Бородина
Информацию о возможности приобретения номера журнала с этой публикацией можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.