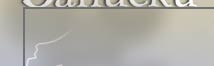|
 |
|
Евгений ГУСЯТИНСКИЙ
«Трансцендентальный» и «стиль»
Свой первый фильм—короткометражку «Дела общественные»—Брессон снял в 1934 году, последний—«Деньги»—в 1983-м. Ленты с перекликающимися названиями закольцовывают долгий путь режиссера. Начавшись в «классическую эпоху» и достигнув современности, этот путь практически охватывает первый век кино. Чуть-чуть опоздав и не поработав в эпоху «великого немого», Брессон до конца жизни снимал кино, в котором звук был равен молчанию, а изображение—слову.
Брессон избрал для себя судьбу одиночки. Перед его глазами прошла история кино—от немого периода до «Догмы». Но он так и не примкнул ни к одному из известных кинонаправлений, и ни одно из течений не повлияло на него. Даже «новая волна»—буря в пустыне. Он же повлиял на всех.
Брессон выработал собственный стиль, который не поддается копированию. Изваял уникальную форму, которая, как ни старались его приверженцы, так и не вышла в тираж. Подражать Брессону бессмысленно, так как он не подражал никому. Для него существовал лишь один образец— сама реальность. Прямой—без смягчающих обстоятельств—и доверительный контакт между кино и жизнью лежит в основе искусства Брессона. Подобный же контакт между автором и зрителем—условие восприятия его кинематографа.
За кинематографом Брессона закрепилось название «трансцендентальный». Понятие «трансцендентальный стиль» ввел Пол Шредер, американский сценарист, режиссер и критик. К представителям «трансцендентального стиля» он относил трех режиссеров—Одзу, Брессона и Дрейера. Термин
«трансцендентальный» нуждается в пояснении. Его трактуют по-разному. В обиходном языке он часто используется как синоним «божественного», «сверхъестественного», в философском—как синоним «имманентного», «внутренне присущего».
«Трансцендентальное находится вне сферы чувственного опыта, и то, что оно трансцендирует, является, по определению, имманентным. <…> Связывая слова «трансцендентальный» (религиозный термин по преимуществу) и «искусство» в одном понятии, мы предполагаем, что рассматриваем религию и искусство как явления однородные. <…> Трансценденция представляет собой высшую форму опыта; искусство и религия—ее двойники-манифестанты. <…> Трансцендентальное искусство чуждо сектантству: «Искусство может быть религиозным,—писал Герард ван дер Лееув,— или казаться таковым, но оно не может быть мусульманским, буддистским или христианским. Не существует христианского искусства, как нет христианской науки. Есть только искусство перед лицом божественного». Истинная функция трансцендентального искусства, следовательно, состоит в выражении божественного самого по себе (трансцендентного), а не в иллюстрировании святых чувств»[1].
Сложность в том, что трансцендентальное в искусстве—это гипотетическое или теоретическое. Его невозможно выразить или описать. Но можно подразумевать—держать в уме. Что и делает Шредер в своей книге «Трансцендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон, Дрейер, а Брессон—в большинстве своих лент. Он воспринимает реальность и, соответственно, кинематограф как промежуточные или посреднические пространства. И сам становится проводником—между трансцендентальным и повседневным, внешним и внутренним, видимым и невидимым. В «Дневнике сельского священника» мир подернут дымкой то ли божественного, то ли космического. Подзаголовок фильма «Приговоренный к смерти бежал»—«Дух веет, где захочет». Искусство Брессона—духовный опыт. Но тут существует одна тонкость. Само искусство и, в частности, кинематограф Брессон ни в коем случае не обожествляет, не превращает в культ. Напротив, каждый раз настаивает на его материальной и бренной природе. Он ставит знак равенства между природой искусства и природой жизни. И то, и другое—элементы действительности. Все зависит от того, как на нее посмотреть. Брессон смотрит как на знак трансцендентального или божественного. Этот взгляд продиктован вероисповеданием художника. Брессон—католик. Но он не создает «католического искусства» и не проповедуют свою религию. Наоборот, обнажает ее основу, идентичную основам других религий. В этом смысле трансцендентальное есть универсальное. Это торжество сходства над различием— преодоление различий как препятствий. Трансцендентальный стиль размывает культурные, национальные различия и объединяет вместе протестанта Дрейера, католика Брессона и совсем уж чуждого здесь японца Одзу. Искусство каждого из них представляет собой квинтэссенцию национальной культуры и религии. Они говорят на языке, который их сформировал. Но при этом отказываются переводить его для тех, кто с ним не знаком. С одной стороны, идеальный зритель Брессона—католик, Дрейера—протестант, Одзу—тот, кто исповедует религию Востока. С другой стороны, для выражения своих, столь различных, взглядов на мир они находят одну и ту же кинематографическую форму, один и тот же стиль (его подробно описал Шредер в своей книжке). Парадокс в том, что эта форма не исчерпывается своим содержанием (в каждом случае—различным). В ней обнаруживается незаполненное пространство, которое поглощает национальные, культурные и религиозные различия. Как капли в море, они теряются в этой вселенной. И Одзу, и Брессон, и Дрейер самоотверженно следуют принципам национальной культуры и религии и тем самым открывают выход в универсальное пространство, в котором законы бытия совпадают с законами кинематографа и искусства. Это пространство универсальных ценностей и универсального кино Шредер называет сферой «трансцендентального». С одной стороны, Шредер нашел точное и лаконичное слово, с другой, слишком абстрактное—каждый может толковать его на свой лад. «Трансцендентность» понимается здесь не столько как религиозная или сугубо философская категория, сколько как эстетическая и этическая, вернее, антропологическая. Субъективный авторский взгляд на человека в мире и на мир в человеке является в то же время взглядом кинематографическим, в этом смысле— имперсональным (то есть трансцендентным). Поэтому Одзу, Брессон, Дрейер, будучи великими антропологами, выражали сущность кино. При этом их языковые открытия не есть формальные опыты. Напротив, «означающее» тут неразрывно связано с «означаемым», форма—с содержанием, кино—с реальностью. «Трэвеллинги и панорамы не соответствуют движению глаза. Они отделяют глаз от тела. Не пользоваться камерой, как веником» (Брессон). «Между трэвеллингом и панорамой существует моральная проблема» (Годар).
«Трансцендентальный стиль»—это то, что все видят, но объяснить никто не может. Возникает неизбежная путаница в терминах. За понятием «трансцендентальный» стоит могучая философская, религиозная и теологическая традиция, которая интерпретирует «трансцендентальный стиль» с сугубо научной позиции. Эта традиция видит в «трансцендентальном стиле» воплощение своих представлений о жизни и искусстве. Но «трансцендентальный стиль»—не наука. Ни Брессон, ни Одзу, ни Дрейер не ставили перед собой цели в популярной форме проиллюстрировать некие научные, философские или религиозные догматы. «Трансцендентальное» для них не являлось теоретическим понятием. Оно не нуждалось в доказательствах, а было имманентным их видению мира и включало в себя не только «духовное», но и «материальное», не только «божественное», но и (прежде всего) человеческое. Точнее,—всю реальность, такую, какая она есть—от начала и до конца. Ведь аскетизм Брессона—это в первую очередь отказ от выбора, от избирательности взгляда, за которым, как результат, следует отказ от всех приемов, с помощью которых взгляд можно отвести или закрыть глаза—от панорам, трэвеллингов и уловок монтажа. Брессон снимает как видит, а не так, как хотел бы видеть. Его взгляд долог, непрерывен и статичен. Этот взгляд—испытание для органов чувств. И стоический вызов переменчивой реальности. Она покоряется. С ней—примиряются. И «трансцендентальное»—лишь одна из ее характеристик. Но эти характеристики не постоянны. Они сменяются другими—как незаметно меняется стиль Брессона. Поэтому его кино в равной степени можно назвать как «трансцендентальным», так и «социальным», как «документальным», так и «поэтичным»— особенно если вспомнить слова Бродского о том, что (цитирую по памяти) истинная поэзия—это отказ от смягчающих прилагательных в угоду беспристрастных существительных и глаголов. Именно к такой—жестокой—поэзии постепенно приходит Брессон. Его кинематограф состоит из существительных и глаголов. Брессон не доверяет прилагательным. Поэтому, на мой взгляд, в словосочетании «трансцендентальный стиль» последнее слово намного важнее первого. Стиль Брессона—это голое существительное, череда твердых знаков. И прилагательные не в состоянии его описать, исчерпать до дна. Потому и писать о Брессоне значит отказываться от «прилагательных» как законченных определений. Что в принципе невозможно. Но можно ставить их под сомнение. Или установить критическую дистанцию и держать их в уме—как утешительный вариант.
Выше уже отмечалось, что «трансцендентальный стиль» открывает пустое—сакральное—пространство, которое обладает феноменальным свойством—чем больше заполняешь его, тем неограниченнее оно становится. Оно не может быть заполнено до конца. Писать о Брессоне означает все время заполнять это пространство и неизбежно увеличивать коэффициент пустоты, сознавая собственное бессилие. Поэтому ни одна из известных (критических, киноведческих или искусствоведческих) методологий не работает на фильмах Брессона. «Трансцендентальный стиль» сопротивляется интерпретации—потому как сам не является ею.
Ангелы греха и дамы Булонского леса
«Ангелы греха» и «Дамы Булонского леса» снимались Брессоном во время Второй мировой войны. Это принципиально важно, так как многое объясняет в стилистике режиссера, его поэтике.
Эпоха поэтического реализма закончилась с наступлением Второй мировой. Романтизм «поэтических реалистов» не выдержал контакта с новой реальностью, перенасыщенной, превосходящей по своей интенсивности динамику «классического» кино.
Поэтические реалисты предчувствовали войну—великое потрясение, которое в корне изменит мир. Защиты от грядущих—непредсказуемых— перемен они искали в устоявшемся далеком прошлом, в мифологическом и сказочном пространстве. Но их романтизм наполнен отчаянием и страхом перед действительностью. В их сказках («Вечерние посетители») чувствуется тревога, «тоска по лучшей жизни» и сопротивление реальности—настоящему времени. Режиссеры «поэтического реализма» могут напомнить (феллиниевских) оркестрантов, самоотверженно музицирующих даже тогда, когда рушится мир.
Брессон застал «поэтический» реализм. «Дела общественные», увы, не сохранились. Но известно, что «это три дня из жизни воображаемого диктатора, исполненного клоуном Беби», что фильм снят в жанре «сумасшедшей комедии». Очевидно, Брессон сделал злободневную ленту. Диктатор в исполнении клоуна—это практически предтеча «Великого диктатора» Чаплина. Чаплин с горечью спародировал Гитлера в 1940 году. Брессон—в 1934-м, когда фашизм только утверждался.
В «поэтическом реализме» веет французским духом. Брессон же не принадлежит национальной культуре в той степени, в какой ей принадлежат Клер или Карне. С «поэтическим реализмом» его ничего не связывает. Как и с французским авангардом—кроме сотрудничества с Жаном Кокто, написавшим диалоги для «Дам Булонского леса». Поэтический реализм принадлежит довоенной эпохе. А кинематограф Брессона есть искусство послевоенного времени. Смена вех определила стиль режиссера.
Можно предположить, что в эпоху великих потрясений реальность отторгает наработанные кинематографические структуры. И разрушает экранные формы—«ключи и путеводители, помогающие зрителю “понять” картину: сюжет, игру, характеры, операторскую работу, музыку, диалоги, монтаж. В фильмах трансценденталистов эти элементы становятся “невыразительными” (то есть не выражающими личностные или культурные свойства); они сводятся к функции орнамента. Трансцендентальный стиль стилизует саму реальность путем элиминации этих элементов (хотя бы частичной), являющихся выразителями человеческого опыта, лишая, таким образом, принятые интерпретации всякого смысла и влияния»[2].
Стиль Брессона—аскетизм. Он отказывается от профессиональных актеров сюжетной динамики, операторских изысков, принципов монтажного кино и создает чистую форму, сосредотачиваясь на времени и пространстве—основе кино. Брессон стремится к максимальной длительности кадра и максимальному расширению и углублению пространства. Его фильмы строятся на глубинных мизансценах и внутрикадровом монтаже. Базен причислял Брессона к представителям реалистического кино, которое не трансформирует действительность и дарует свободу выбора при взгляде на экран. Уже в «Ангелах греха» Брессон освобождает внутрикадровое пространство.
<…>
Брессон нащупывает, активизирует драматургию пространства и времени. И здесь он сближается с Чеховым, чьи герои не могут вырваться из окружающего пространства и кожей чувствуют, как напрасно и бессмысленно утекает время: ведь все стоит на месте и почти ничего не происходит. Как и Чехов (а также Беккет), Брессон видит мировую трагедию уже в самом существовании человека, в том, что он вынужден жить и ориентироваться в каком-то пространстве и носить часы—помнить о времени, следить за ним, ощущать его власть. «Жизнь существует лишь для того, чтобы ее прожить»—эти слова Гёте могли бы, на мой взгляд, стать эпиграфом и к пьесам Чехова, и к фильмам Брессона.
<…>
Человек в фильмах Брессона всегда оказывается заложником места—времени и пространства. Пленником судьбы. Вне зависимости от того, какие формы пространство принимает. Оно везде одно и то же и всегда сковывает человека. Побег, избавление—лишь прелюдия к новой каторге. Замкнутый круг. Это внешняя сторона вещей. Брессон ее не эстетизирует и не обожествляет. Задача Брессона—видеть, не изменяя, не соприкасаясь. И не выносить суждений. Эта реальность доступна только в созерцании. Слова здесь бессильны: кино Брессона говорит само за себя. «Правда кинематографа не может быть и правдой театра, правдой романа, правдой живописного произведения. (То, что кинематограф охватывает присущими ему средствами, не может быть тем, что театр, роман, живопись схватывают присущими им средствами.)»[3]
«Звуковое кино распахивает двери театру, который завладевает местом и окружает его колючей проволокой». «Ангелы греха» Брессон снял в 1943 году, когда дилемма «звуковое-немое» перестала быть актуальной, как и споры о том, уничтожит ли звук кино. Между тем уже о первой работе Брессона можно сказать так же, как Базен определил немые «Страсти Жанны Д’Арк» Дрейера—«первый звуковой фильм». Несмотря на то, что «Ангелы греха»—не немая картина, и звук, в особенности музыка, в ней присутствуют. Но играют особую роль. <…>
<…>
Сюжет фильма прост, его смысл кажется ясным. Обреченность добра и неискоренимость зла, иррациональная жертвенность и беспощадный животный прагматизм. Миссионерка Анн-Мари и преступница Тереза. Божественный идеал или ангел, сохраненный ценой человеческой жизни. Земной грех, чье искупление ведет к другому греху. Очень строгая диалектика. Черно-белая история, как в прямом, так и в символическом смысле.
Несмотря на кажущуюся доходчивость, сюжетную и смысловую прямолинейность, «Ангелы греха» остаются одной из самых парадоксальных и сложных картин Брессона. Очевидные ответы не решают поставленных Брессоном вопросов. Слова ничего не объясняют. Точнее, изображение не исчерпывается словом. Как жизнь брессоновских героев—Словом, с которого она началась. Связь между словом и изображением носит у Брессона не столько художественный, сколько метафизический характер. С одной стороны, в его фильмах ощутимы недостаток слов и неполнота слова, с другой—их компенсирует изобразительный ряд. Гармония двух начал лежит в основании трансцендентального стиля. Абсолютное доверие к изображению—результат обманчивой природы слова. Слова лгут. Изображение достоверно.
Между историей и ее рассказом существует эстетическая дистанция или препятствие, которое не позволяет зрителю идентифицировать себя с героями и поставить точку в интерпретации фильма. В то же время дистанция становится условием активной созерцательности.
<…>
Отказываясь от психологии, Брессон «стирает» человеческие лица. Кстати, Бергман, один из главных знатоков человеческого лица, добивается противоположного эффекта: в его «Персоне» крупные планы женских лиц, их коллаж, монтаж, демонтаж парадоксально оборачиваются исчезновением лица именно как лика, он пропадает из-за деперсонализации лиц Биби Андерсон и Лив Ульман. Они носят маску «слишком человеческого», но за ней—констатирует Бергман—не осталось ничего «человеческого».
Стихия Брессона—обыкновенное, приглушенное, но за «простым» человеком он не видит толпы, а за обычным деревцем—леса.
Метод Брессона состоит не в том, чтобы в каждом человеке увидеть и раскрыть актера, непохожего на другого. Скорее, в обратном: видеть обыкновенное в необыкновенном. <…>
<…>
Вера как акт свободного выбора—именно эту веру провозглашает Брессон, противопоставляя ей несвободные законы монастыря, жестокого места. О тюрьме и свободе, о свободе в тюремных стенах Брессон вскоре снимет фильм «Приговоренный к смерти бежал».
<…>
Коллизия «Ангелов греха», в центре которых—противостояние двух женских персонажей, повторяется в «Дамах Булонского леса», следующем фильме Брессона. И там, и тут диалог тяготеет к монологу. Но если действие первого фильма разворачивается в священном пространстве, то «Дамы Булонского леса»—это светская история. Элен, дама из высшего общества, поклялась отомстить бросившему ее любовнику—Жану. В кабаке она встречает подругу, оказавшуюся на краю бедности и потому вынужденную торговать своей дочерью Аньес. Элен берет опеку над несчастными. Дает им деньги, квартиру, знакомит их с Жаном. Тот влюбляется в молодую девушку, дело доходит до свадьбы. В этот момент Элен публично заявляет, что он женился на проститутке. Но это известие уже не в силах разлучить влюбленных. Жан остается со своей женой.
На первый взгляд этот фильм во всем противоположен «Ангелам греха». Однако драму религиозного сознания, лежащую в основе и «Дневника сельского священника», Брессон снимает практически так же, как и мелодраматическую, очень буржуазную, историю. Стиль Брессона «высушивает» сюжет «Дам Булонского леса», обесценивает его «потребительскую стоимость», доводит его до обжигающей бесчувственности. В этом фильме жестокий и высокий брессоновский стиль напряженно диссонирует с салонностью и жанровостью истории. При этом романтическая одержимость главной героини не обусловлена только лишь желанием отомстить. Собственную роль Элен режиссирует не хуже, чем роли остальных персонажей фильма. <…>
<…>
Видеть, не обозначая, и говорить про себя—молча. «Свести все к простому видению—сокровенное желание интеллекта, стремящегося превзойти условия человеческого существования, но удовлетворяется это желание лишь благодатью, в сверхсветозарной ночи Боговидения»5. К этому Брессон приходит в «Дневнике сельского священника» и «Приговоренном…». Это уже монологическое кино. Там действует только один герой. Но у него есть отражения —собственная тень на стене тюремной камеры («Приговоренный»), почерк как автопортрет на страницах дневниковой тетрадки («Дневник сельского священника»).
Дневники
Возвращаясь к теме войны, ее влияния на язык кино, следует нарушить хронологию брессоновских фильмов и обратиться, минуя «Дневник сельского священника», к ленте «Приговоренный к смерти бежал». Эта картина—квинтэссенция брессоновского стиля.
«Приговоренный…» непосредственно затрагивает тему фашизма как машины власти, бесчеловечной, безликой и даже бесплотной. Но, как всегда у Брессона, палачи и жертвы намертво повязаны—вплоть до полной неразличимости—узами рока. Тюремные инквизиторы—такие же исполнители неведомой чужой воли (вспомним Элен), как и те, кого они расстреливают. Потому—никаких суждений «за» или «против».
Фильмов о войне снято сотни. Большинство из них исходит из того, что объективно рассказать о войне невозможно. «Приговоренный…» этой максимой не измеряется. Изображая нацистскую тюрьму, Брессон избегает напрашивающейся субъективности в выборе между войной и миром, добром и злом, в противопоставлении преступления и наказания, свободы и несвободы, справедливости и несправедливости, правых и виноватых. Брессон исходит из того, что наша (художника и зрителя) субъективность—иллюзия не меньшая, чем возможность объективного отражения войны и реальности в целом. Эти иллюзии только лишь подтверждают искомую неполноту нашего видения, которое не соединяет с миром, а, наоборот—отлучает, отчуждает от него. Субъективность в словаре Брессона—это практически синоним индивидуализма, который, по мысли Жака Маритена, возник и прочно утвердился в эпоху Возрождения. И уже в другой — фашистской — форме аукнулся в двадцатом веке.
<…>
(После)военная реальность потребовала не субъективного «художественного», а деперсонифицированного документального (объективного) взгляда, а значит—отказа от всех игровых аттракционов, можно сказать, того стиля, который Брессон осваивал в своих первых фильмах. К слову, многие (Пол Шредер в том числе) называют Брессона формалистом, ссылаясь при этом на слова самого Брессона. В то же время его стиль напрямую проистекает из обостренного чувства колебаний и конвульсий реальности, самого исторического момента, что позволяет говорить о Брессоне как о социальном художнике, о том, что он описывает реальность ее же собственным языком. Брессон осознал, что новую послевоенную действительность невозможно описывать старыми средствами.
<…>
Остранение Брессона иного свойства. Как и у Ренуара, оно неожиданным образом сближается с «эффектом очуждения» Брехта, и «Приговоренный…»—лучшее тому свидетельство.
<…>
По этой же причине Брессон, как, кстати, и Брехт, против актеров, чьи игра и повышенная активность сковывают зрение, чувства зрителей, их режиссерские способности. Модели Брессона, напротив,—это зрители собственных судеб. Они «играют» так, словно все уже сыграно, прожито, завершено. Единственное, что им остается—это говорить о себе в прошедшем времени, как о тех, чье существование уже прекратилось. Герои Брессона говорят о себе, как о мертвых, и тем самым бросают вызов смерти и разрушительной силе времени.
<…>
Кино Брессона антропоморфно. «Кино—это не зрелище, а почерк». Почерк каждого неповторим, но часто неразборчив, а потому—стенографичен. Он требует расшифровки, медленного чтения (наблюдения) и повторения каждого движения пера (или взгляда) стенографиста. Почерк—след человеческого «Я». Кюре понимает еще и то, что его дневник никто не сможет прочесть, кроме него самого. И потому решает его сжечь, а можно сказать—похоронить. Чтобы не оставлять после себя следов. Забываешь себя тогда, когда о тебе не могут вспомнить другие.
«Дело в том, что он (писатель—Е.Г.) ощущает крайнее нежелание отказываться от владения собой ради той ничейной силы, не имеющей ни вида, ни предназначения, что стоит за всем, что пишется,—нежелание и опасение, которые выдает свойственная стольким авторам забота изготовить то, что они зовут своим “Дневником”. Это очень далеко от так называемой романтической слабости. Ведь Дневник по своей сути не является исповедью, повестью о себе самом. Это Памятник… Истина Дневника содержится… в тех незначительных подробностях, которые привязывают его к обыденной действительности… Все это говорится без всякой заботы об истине, но говорится это под присмотром события, принадлежит… к некоему активному настоящему, поре, быть может, совершенно ничтожной и не имеющей никакого значения, но тем не менее, безвозвратной»[12].
«Ничейная сила», завладевающая героями Брессона,—это рок. Но кюре пишет Дневник не ради «владения собой». Фиксируя «незначительные подробности», детали и шорохи «обыденной действительности», он сливается со своей судьбой, с «активным настоящем» и судьбой мира, исчезает в них. «Я» священника—это безымянность мира, события, времени. Если его дневник—это памятник, то недолговечный или тот, который сам нуждается в восстановлении.
«Дневник указывает на то, что пишущий больше уже не способен соотноситься со временем через постоянство обыденных занятий, через общность труда, ремесла, через простоту задушевного слова и в силу бездумности… Он пишет на потребу собственной повседневной истории и в соответствии со своими каждодневными занятиями»[13]. Дневник кюре, а можно сказать—кинематограф Брессона, есть единственная форма взаимоотношений с миром. Чем прозрачнее форма, тем насыщеннее мир. Чем явственнее отсутствие первой, тем очевиднее присутствие последнего.
Кюре ежедневно стенографирует собственное существование. Письмо кюре—это стенограмма его жизни.
<…>
Брессон очень осторожно налаживал связи, контакты с травмированной, уставшей послевоенной реальностью. В этом смысле, его фильмы— возможно, последний образец чистого мимесиса в кино. Брессон, как сказал бы Бахтин, выжал из киноязыка все соки—овладел им в совершенстве.
Стенографический стиль Брессона—это экономия и в то же время возвращение к первоистокам языка, его восстановление. Но Брессон понимает, что первооснова неизбежно отличается от общепринятой нормы, что «восстановленный»—это уже «другой». Если «поэтический реализм», а вместе с ним и все европейское послевоенное кино,—это образный язык, и кризис, его постигший, есть кризис образности, то кинематограф Брессона—это пространство после взрыва. Можно сказать, пустое пространство, которое возникло на месте погребенного войной «классического кино». Это пространство без образов, ведь Брессон прекрасно понимает, что образ и «поэзия невозможны после Освенцима» (Т.Адорно), что они бессильны перед лицом безобразной реальности. В то же время «Приговоренного…», где действие сосредоточено в нацистском лагере, можно смотреть и как антитезу легендарным словам Адорно. Трансцендентное в этой картине сталкивается не столько с повседневным (как в «Дневнике»), сколько с бесчеловечным. С конкретным фашистским опытом. В фильме Брессона «поэзия» (или музыка Моцарта, или трасцендентное) освящает нацистский лагерь смертников.
Вооружившись мыслью Мориса Бланшо, можно сказать, что из остатков образного языка Брессон формирует образ самого языка,—того, на котором Брессон говорит, и того, о котором он говорит. Чистое единство. Без борьбы противоположностей.
Изобразительный аналог стенограммы—фотография. И та, и другая документируют реальность. Если письмо кюре можно свести к стенограмме, то кинематограф Брессона тяготеет к фотографии. Фотография—это источник искусства Брессона, стенограмма—итоговая форма дневника кюре. Стенографическое письмо кюре равнозначно фотографическому письму Брессона. Изображение в «Дневнике сельского священника» становится фотографией, а страницы из дневника, снятые крупным планом,—стенографической подписью к ней. Так как написанный, читаемый и произносимый священником текст равен—и по точности, и по интонации—изображению, то можно сказать, что священник как бы фотографирует сам себя. Тут соблюдается и главный принцип Дневника—принцип анонимности (зритель так и не узнает имени священника). Эта почти «средневековая» (доренессансная— в противовес индивидуализму) анонимность обязывает художника (писателя, фотографа, кинематографиста) писать, фотографировать и снимать так, чтобы забывать себя, и чтобы о тебе забывали другие, забывал мир.
Крупный план букв, слов, предложений, выходящих из-под пера кюре, слой за слоем ложится на пейзаж—и пейзаж просвечивает сквозь страницы тетрадки. Забыть, что являешься писателем, фотографом, режиссером. Поставить крест на своей субъективности. Словно священник только и делает, что подписывает картину мира, но—на самой картине: другого места нет. Неизбежное смещение подписи—следствие безграничности картины мира, ее всеохватности. У Брессона изображение всегда выходит за границы рамки, никогда не ограничивается ею. Так подпись пропадает в картине, слово—в изображении. И наоборот.
Кюре делает подписи к фотографиям Брессона, но и Брессон делает снимки к записям священника. Брессон относится к кюре не как к герою, а как к соавтору. Режиссер прочитывает—на экране—книгу Бернаноса, а зритель внимает герою, пишущему дневник. Эта сложная структура есть система отношений между автором, героем и зрителем, своего рода «общественный договор», который определяет дистанцию (точнее, дистанции, так как они не равновелики) между ними. В экранизациях Брессона режиссура тяготеет не столько к письму, сколько к чтению.
<…>
Взгляд героя никогда не попадает в камеру, не пересекается с взглядом зрителя, равно как не встречаются глазами герои между собой и, кажется, отводят глаза от автора. Эта разнонаправленность взглядов—характерная черта «трасцендентального стиля», свойственная и Брессону, и Дрейеру, и Одзу. Можно вспомнить знаменитую сцену из «Гертруды» Дрейера: персонажи, мужчина и женщина, бывшие любовники, не видевшие друг друга много лет, сидят в разных углах дивана и смотрят в разные стороны, за границы кадра, она—влево, он—вправо. И в это время они ведут медленный диалог о скоротечности, слабости чувств. Все снято одним долгим статичным фронтальным кадром. Одна из самых сильных, глубоких, пронзительных сцен в кино—эпитафия любви.
<…>
Брессоновская модель притупляет в себе великий соблазн подражать реальности и погибает от собственной бесстрастности. Модель статична. Она есть скульптура, изваянная из человека, а не из камня. Отказ от заведомо неисполнимого желания обладать реальностью освободил Брессона от образцового страдания формой. Но «обязал» рефлексией над ней. В этом смысле искусство Брессона не параллельно, а перпендикулярно реальности. Оно закрыто для интерпретаций. Стилевое совершенство фильмов Брессона—это «парадный» кинематографический автопортрет бесстильной и несовершенной реальности. Брессон обнажает уязвимый страх реальности перед своим изображением. Но не нажимает, в отличие, скажем, от Бунюэля, на эту болевую и сверхчувствительную точку, а, напротив, защищает ее от зрительских—всегда безжалостных—прикосновений. Поэтому реального и видимого в фильмах Брессона больше, чем изображаемого и невидимого. Повторений больше, чем отражений. Реальность без изображения— не иначе. Только реальность огораживается все той же решеткой, которая, с одной стороны, защищает, а с другой—пропускает наружу то, что должно быть скрыто. Брессон оставляет диссонирующим равновесие между внешним и внутренним, достоверным и истинным, искренним и откровенным, чувственным и эмоциональным, объяснимым и необъяснимым.
Герои Брессона не замечают взгляда камеры, не видят того, кто их снимает (увидеть его означало бы стать объектом, актером, вести себя так, как того желает другой—зритель). Они, напротив, погружены в себя. Их внутренний взор, самососредоточенность, физическая оцепенелость бросают вызов зрителю, служа броней от его любопытства. С другой стороны, автоматизмом, натренированностью движений и жестов модель притягивает к себе зрительский взгляд. Но при этом остается фигурой загадочной, непознаваемой. Модель больше скрывает, чем показывает. Так люди выглядят на документальных фотографиях, застающих реальность врасплох. На фотографиях тех, кто забыл или не знает, что их снимают. И на снимках тех, кто, фотографируя, забывает себя.
Прелесть таких фотографий в том, что они даруют зрителю шанс (или сеанс) свободного созерцания. Они пробуждают такое восприятие, которое, будучи не в силах исчерпать, иссушить изображение (объективировать его), само становится незавершаемым, творческим. Обреченность зрительского взгляда на провал и поражение есть условие той созерцательности, которую исповедует и диктует Брессон. Подобно тому, как взгляд Брессона погружен в реальность, взгляд зрителя постепенно тонет в его кинематографе. Обезоруженное восприятие примиряет с ужасом повседневности, которая, по словам Пола Шредера, «лишь «фикция и сырье трансцендентного».
<…>
Граница между реальностью и вымыслом становится прозрачной. Во-первых, благодаря замедленной фото-стенографической технике. Во-вторых, из-за монологической структуры, использованной, между прочим, Виктором Гюго в повести с перекликающимся названием «Последний день приговоренного к смерти». В предисловии к «Кроткой» Достоевский пишет: «Процесс рассказа продолжается несколько часов, с урывками и перемежками, и в форме сбивчивой: то он (герой «Кроткой»—Е.Г.) говорит сам себе, то обращается как бы к невидимому слушателю, к какому-то судье. Да так всегда и бывает в действительности. Если б мог подслушать его и все записать за ним стенограф, то вышло бы несколько шершавее, необделаннее, чем представлено у меня, но, сколько мне кажется, психологический порядок, может быть, и остался бы тот же самый. Вот это предположение о записавшем все стенографе (после которого я обделал бы записанное) и есть то, что я называю в этом рассказе фантастическим. Но отчасти подобное уже не раз допускалось в искусстве: Виктор Гюго, например, в своем шедевре “Последний день приговоренного к смертной казни” употребил почти такой же прием, и хоть и не вывел стенографа, но допустил еще большую неправдоподобность, предположив, что приговоренный к казни может (и имеет время) вести записки не только в последний день свой, но даже в последний час и буквально в последнюю минуту. Но не допусти он этой фантазии, не существовало бы и самого произведения—самого реальнейшего и самого правдивейшего произведения из всех им написанных»..
Этот текст соотносим и с «Приговоренным…» Брессона. Так же, как Достоевский стирает грань между фантастическим и реалистическим, Брессон стирает грань между игровым и документальным. Для этого Достоевский вводит фигуру стенографа, а Брессон—фотографа. Стенограмма как материал Достоевского—это фотография как стиль (или форма) Брессона. Фотография—это изобразительный (кинематографический) эквивалент стенограммы.
Возможно, тяга Брессона к фотографии обусловлена его неприязнью к театру. Действительно, фотография противостоит театру даже больше, чем живописи. В случае Брессона фотографию следует рассматривать не как антипод живописи, но как радикальную антитезу театра. В фотографии отсутствует как раз то, что в избытке присутствует в театре, а значит то, что враждебно Брессону, его этике и эстетике. Кино относится к фотографии приблизительно так же, как последняя—к театру. Если кино—это жизнь, а фотография—смерть (формула Сьюзан Зонтаг), то справедливо и иное утверждение: фотография—жизнь, театр—смерть.
<…>
Брессон отказывается от театральности, литературности и живописности с тем, чтобы кинематограф ничем не уступал театру, литературе, живописи. Кинозал Брессон превращает в пространство, подобное музею или храму, в пространство сакральное, а зрителя—в одинокого, самососредоточенного читателя книги, человека перед картиной и театральным—а в идеале храмовым—действом. Это и называется по Брессону кинематографом. Кино же—это театр, живопись и литература, вырванные из своей природной стихии. Кино превращает человека в абсолютного—и тоже технического—зрителя. Человеческое восприятие становится не искусством, а таким же техническим процессом, как и само кино, его производство. Самого человека из активного и целостного субъекта кино превращает в объект, пропадающий в массе. А фотография, как и кинематограф Брессона, всегда сохраняет целостность субъекта—того, кто смотрит.
Фотография—изобретение техническое, но в ней, возможно, прозревает аура рукотворного искусства. Рискну предположить, что в «эпоху технической воспроизводимости искусства» Брессону, как Дрейеру и Одзу, удалось вернуть кинематографу, техническому произведению, сакральную (или «трансцендентную») ауру классического искусства как «ауру природных объектов» (гор, ветвей), как «уникальное ощущение дали, как бы близок при этом предмет ни был»,—ауру, уничтоженную, по мнению Вальтера Беньямина, в двадцатом веке, уравнявшем технику и метафизику, копию и оригинал, искусство и товар. Да и сам Брессон прекрасно понимал, что в двадцатом столетии художник более не властен над аурой, он не способен наделить ею произведение. Если она и может возникнуть, то только благодаря усилиям зрительских органов чувств, благодаря вдумчивости и сосредоточенности уже не столько того, кто делает искусство, сколько того, кто его воспринимает. Брессон ставит перед собой великую задачу—спровоцировать зрителя не на критическую, а на художническую позицию, создать такие условия, при которых сам зритель наделял бы произведение аурой. Поэтому идеальный зритель Брессона—это режиссер. В этом состоит смысл брессоновского аскетизма, доведенного в «Дневнике сельского священника», «Приговоренном к смерти…», «Процессе Жанны Д’Арк» до крайности. Брессон убирает все, что связано с аттракционным (техническим) кинематографом. Он создает чистую, абстрактную форму, оставляет белый лист и вручает зрителю карандаш. На просьбу приговоренного к смерти принести ему Библию следует ответ: «Библии нет, зато есть карандаш». Карандаш—это глаз зрителя, чье восприятие отныне дополняет произведение, одушевляет его. А дух—это аура.
<…>
Герой Брессона становится реальным человеком благодаря тому, что не тянет за собой шлейф героических поступков или героической биографии.
Герои Брессона—это люди без прошлого. Они, как и те, кто предстает на фотографиях, существуют в абсолютном, бесконечно длящемся настоящем. Таков и приговоренный к смерти Фонтен. Подобно Льюису Пейну, он погружен в вечное настоящее, в котором все уже произошло, но неизбежно повторится вновь.
Как и о Пейне, о Фонтене ничего не известно, кроме того, что он приговорен к смерти. За что? Об этом Брессон вскользь упомянет ближе к финалу: Фонтен осужден за шпионаж. По справедливости ли? Этот вопрос не стоит, потому что ничего не решает, он принадлежит прошлому, на которое нет надежды. Брессон называет «Приговоренного к смерти» фильмом, состоящим из одного эпизода. Можно сказать,—из одного кадра, одной фотографии. На ней—человек в камере смертника. Человек, не окруженный героическим ореолом. И не стремящимся быть героем, благодаря чему и совершает побег. Ведь на побег Фонтена толкает не столько страх смерти, сколько страсть действовать. Совершенно естественно, что тюрьму он воспринимает как пространство, нуждающееся в преодолении. Парадокс в том, что Фонтен не думает о смерти. Побег—не синоним освобождения. Свобода обретается в самом процессе побега—когда не думаешь о его результате. Фонтен готов умереть, но не желает, чтобы смерть опередила его. Он хочет умереть своей смертью, заслужить ее, а не быть расстрелянным тогда, когда того захотят другие. Ежедневные пулеметные очереди, раздающиеся за стенкой,—вот что пугает героя. Умереть по чужой воле. Уж лучше приблизить свою смерть самому и прервать изнуряющее ожидание исполнения приговора. Примечательно, что опыт другого приговоренного к смерти, попытавшегося бежать, но схваченного и расстрелянного на месте, не останавливает Фонтена, напротив,—придает ему мужества и решимости. Он бежит на следующий день. Фонтену легче спровоцировать собственный расстрел, чем ждать, когда это сделают другие. Но Фонтен—не самоубийца. Его поступок чреват смертью, но совершается во имя жизни. Будь Фонтен тем, кто желает расстаться с жизнью, он не стал бы бежать. Именно воля к жизни, к действию помогает ему забыть себя—забыть о том, что кто-то приговорил его к смерти. Своим поступком он сам приговаривает себя к смерти и таким образом перехватывает чужую инициативу.
Другой здесь—не только нацистская власть, закон, судья, палач… Другой—прежде всего смерть. Собственная смерть. Герои Брессона желают подчинить ее себе. Как и Другой, смерть превращает человека в объект. А герой Брессона, как и «человек из подполья» Достоевского, «более всего думает о том, что о нем думают и могут думать другие, он стремится забежать вперед каждому чужому сознанию, каждой чужой мысли о нем, каждой точки зрения на него… Он старается предвосхитить возможное определение и оценку его другими. Он знает, что последнее слово за ним, и во что бы то ни стало стремится сохранить за собой это последнее слово о себе, слово своего самосознания, чтобы в нем стать уже не тем, что он есть»[16].
Именно этот порыв движет Фонтеном—остаться собой, предвосхитить свою смерть и присвоить ее. Тем же порывом охвачены и самоубийцы Брессона—Мушетт и Кроткая. Они кончают с собой, руководствуясь голосом рассудка. И после смерти не желают быть оплаканными. Ни Мушетт, ни Кроткая не оставляют предсмертных записок, а это свидетельствует о том, что они требуют, чтобы о них забыли другие. Как и естественная смерть, память—это оружие Другого. Ибо чужое воспоминание объективирует, «вешает ярлык», искажает то самое «последнее слово». Предсмертная записка—это объяснение и прощание. А смысл самоубийств Кроткой и Мушетт состоит в том, чтобы не оставлять после себя следов и воспоминаний, чтобы просто исчезнуть и оборвать все связи с миром. Мушетт утопилась в заброшенном пруду—с тем, чтобы ее тело никогда не нашли.
<…>
Кинематограф Брессона—это кинематограф прошедшего, совершенного времени. Между самой историей и ее расссказом всегда присутствует непреодолимый промежуток. Время рассказа не совпадает с временем самой истории. Изначальная завершенность и необратимость истории—условие напряжения брессоновских фильмов. Это фотографическое повествование: Пейн умер и ему еще предстоит умереть. Спресованность прошлого, настоящего и будущего в один миг, в фотографический кадр,—это фундамент кинематографа Брессона.
В то же время фотографичность придает его фильмам документальную достоверность. Трансцендентное в «Приговоренном…» оказывается равным документальному. Реальный, подлинный фон истории преобладает над условным действием. Брессон документирует трансцендентное посредством отказа от канонической художественности, которая занавешивает реальность чередой условностей. Но его не волнуют рефлексии о кино, он не разоблачает художественные приемы, которыми не пользуется. Документальность «Приговоренного…» проистекает из почти полной элиминации игрового потенциала, заложенного в сюжете и интриге. Статика пространства одерживает в «Приговоренном…» верх над динамикой времени и истории.
<…>
С течением времени кино Брессона тяготеет к статике, статуарности (апогей этой фотографической устойчивости—«Процесс Жанны Д’Арк). Приближение кинематографа к своему фотографическому источнику—это брессоновское сопротивление эпохе, его нарастающим, разрушительным, тоталитарным скоростям, опережающим и искажающим реальное течение времени. Здесь Брессон становится в один ряд с наиболее глубокими писателями двадцатого века, его провозвестниками —Джойсом, Кафкой, Прустом. Репрессивной реальности, ее обезображенному лицу и телу, эти художники противопоставляют внутренний опыт человека, его рефлексии и эмоции, сознание и подсознание. Его волевую, стоическую субъективность как укрытие от объективного хаоса и в то же время как альтернативную объективность—вплоть до самозабвения, до отчаянного и безвозвратного, а значит гибельного, путешествия вглубь себя. Их герои, по природе одиночки, чужие среди своих, чувствуют ослабление, распад связей между людьми, в первую очередь семейных связей, с болью ностальгируют по ним и сохраняют—ценой неимоверных усилий—видимость их присутствия. Внутренний монолог приходит на смену семейному роману-саге, исчерпанные до дна конфликты между персонажами уступают место изматывающей борьбе героя с самим собой. Группа лиц—первому и единственному лицу.
Не отсылают ли повествовательные структуры Брессона, его восприятие времени как роковой одновременности и предрешенности к джойсовскому внутреннему монологу? Не есть ли необъяснимое чувство вины—удел всех героев Брессона,—эхо кафкианского процесса, рока как беспощадного суда («Процесс Жанны Д’Арк»)? Не наполнены ли закрытые, зарешеченные пространства Брессона клаустрофобией, присущей романам австрийского гения? Не является ли обращение Брессона к эстетике фотографии (фильм как один кадр) попыткой настигнуть утраченное время, которое нелюбимое французским режиссером кино (антипод кинематографа) только лишь тратит, расходует впустую, но не сохраняет?
Брессон возвращает кинематографу ритмы реального—трансцендентного—времени, ход которого никакие (в том числе и технологические) революции нарушить все же не в силах. Но при этом фиксирует бессилие человека перед властью идеологии (фашизм) и технологии (кино).
<…>
Деньги
«Жить своей жизнью»—название наиболее «брессоновского» фильма Годара, сопровожденного брехтианскими титрами, которые комментируют, изобличают действие подобно тому, как в фильмах Брессона это делает голос рассказчика (он же—главный герой). В «Жить своей жизнью» есть эпизод: героиня смотрит «Страсти Жанны Д’Арк» Дрейера, смотрит в одиночестве, плачет. Измученное лицо Жанны стыкуется Годаром с заплаканным лицом Нана—интеллектуальный монтаж. Цитата из фильма Дрейера—камертон ленты Годара, рефлексии режиссера над судьбой «трансцендентального стиля» в кино и в жизни. На взгляд Годара, современная реальность (а история современности по праву может исчисляться с 60-х годов прошлого века) более не является «сырьем трасцендентного». Но умирает от тоски по «сверхъестественному». Нана Годара страдает не меньше, чем Жанна Дрейера. Но ее страдания и ее смерть—не божественное испытание, а обыденный ритуал—как разговор с незнакомцем в кафе, проход по городской улочке, выкуренная сигарета и т.д. Драма жизни в том, что этим страданиям уготовлен третий, четвертый, если не последний план, стертый и трудно различимый. Так, как снимал Дрейер и Брессон, тогда уже не снимали. И сам Брессон стал снимать по-другому. Но не потому, что «трансцендентальный» стиль устарел. Изменилась действительность. Произошла смена вех. Послевоенная реабилитация реальности завершилась, наступила эпоха конформизма («Конформист» Бернардо Бертолуччи).
«Трансцендентальный стиль» Брессона стал ответной реакцией на прогремевшие военные действия. Он возник из разрушенного пространства. Но Брессон не стремился повернуть время вспять. Зато это желание обуревало современников. Его испытал и Годар. Его испытывает Нана на сеансе «Страстей Жанны Д’Арк» Дрейера. Но свою героиню Годар обрекает на негероическую гибель, которая—эффект брехтианского остранения—срежиссирована так, чтобы оставить зрителя равнодушным. И чтобы он насладился собственным равнодушием. Годар поступает радикально и бескомпромиссно, поворачивая нас лицом к самим себе.
Годар говорит о том, что «трансцендентальный стиль» больше не является «элементом действительности», что в современном мире невозможно жить так, как живут герои Брессона и Дрейера. Что все люди по-прежнему умирают одинаково, но в этом более не видят трагедии. Случайная, снятая быстро и почти вскользь, гибель Нана—это не момент катарсиса. В отличие от смерти сельского священника Брессона и Жанны Д’Арк Дрейера.
В «Жить своей жизнью» Годар показал, что «трансцендентальному стилю» уготовлена судьба кинематографической цитаты, цитаты из других фильмов и другой эпохи. Что, в лучшем случае, этот стиль обречен на стилизацию. И Годар (в «Жить своей жизнью») не скрывает, что стилизует его. «Жить своей жизнью» состоит из двенадцати, почти равных, эпизодов; все они сняты под документ, многие—с неподвижной точки, как фотографии. Это сгустки повседневности. Титры между действиями похожи на стенографический текст.
<…>
«Процесс Жанны Д’Арк»—переломный фильм. С этого момента стиль Брессона резко ужесточается. Его все труднее и труднее назвать «трансцендентальным». Язык Брессона навсегда лишается прилагательных. Возможно, Брессон первым (за год до «Жить своей жизнью» Годара) почувствовал, что наступила новая эпоха. И что «трансцендентальный стиль» более не соответствует ей—подобно тому, как «поэтический реализм»—военному времени. Брессон увидел, как «трансцендентальный стиль» вырождается в стилизации, как он становится объектом для подражания, а значит—замещает реальность, мистифицирует ее. Брессон понял, что эпоха, когда искусство подражало природе, завершилась. Теперь искусство подражает искусству, кино—другому кино (в том числе и «трансцендентальному стилю»). А реальность выносится за скобки, оставляется за кадром. Язык кино более не проистекает из драмы жизни, а стиль—из трансцендентального опыта.
Один из последних фильмов Брессона «Кроткая» и последняя лента «Деньги»—это не столько кино, сделанное в «трансцендентальном стиле», сколько кино о «трансцендентальном стиле».
В «Кроткой» (впервые у Брессона) появляется цвет. Изображение становится непрозрачным, не пропускающим, а отталкивающим взгляд. <…>
<…>
Брессон снял свои последние фильмы в совершенно другом—пограничном—стиле. «Деньги» и «Кроткая» противоположны «Дневнику сельского священника», «Приговоренному к смерти…» ровно настолько, насколько они близки к лентам Годара.
«Кроткая» и «Деньги»—это фильмы-мышеловки. Подобно Гамлету, изобличающему королевскую ложь, Брессон развенчивает современные мифы—миф гуманизма, согласно которому у каждого преступления есть мотив и, следовательно, оправдание, а убийцы и жертвы говорят на одном языке. В «Кроткой» Брессон вынес приговор искусству. В последнем фильме он ставит диагноз миру, человеку, цивилизации, словно бы снимая рентгеновские снимки. Рентген—это аналог стенограммы.
Диагноз—Деньги. Они—основа современной жизни и искусства. На них строится все. Деньги—это «последнее означаемое». Деньги ни к чему не отсылают, но к ним—разными путями—отсылает всё.
Последний фильм Брессона условен и материален—как настоящее деньги. Возможно, «Деньги»—одна из самых страшных и жестоких лент о современности. Диагностируя реальность, Брессон сохраняет нейтралитет. В его сдержанности нет сожаления, в молчании—надежды.
Если в ранних картинах каждый кадр мог оказаться последним, и это держало зрителя в напряжении, то в «Деньгах» Брессон вынуждает зрителя повторить слова Полония в сцене «мышеловки»: «Прекратите игру!»
В предыдущих фильмах черно-белая палитра «выглаживала, не смягчая, реальность, как утюгом». Цветной мир «Денег» и «Кроткой» полон острых углов. Классические брессоновские пробелы и эллипсы превращаются здесь в капканы (или мышеловки), куда неминуемо попадает зрительский взгляд.
В «Дневнике сельского священника» экранная реальность зависела от зрительского взгляда, а жизнь героя—от нашей способности держать его в поле зрения, от силы и выносливости зрительских органов чувств. В «Кроткой» и «Деньгах» существование персонажей определяется остановкой, своеобразной заморозкой зрительского восприятия. «Деньги» целиком построены на разрывах в повествовании. Эти разрывы невозможно ничем заполнить, не говоря о том, чтобы восстановить их. Но деконструкция «трансцендентального стиля», разрушение повествовательных структур освобождают реальность от власти интерпретации—как зрительской, так и авторской. А значит—от власти искусства.
С властью зрительской интерпретации боролся и Годар, но он противопоставлял ей авторское (критическое) суждение о фильме. Брессон же исключает как чужую, так и собственную интерпретацию. В первых фильмах Брессона прозрачность сочетается с насыщенностью, в последних—с опустошенностью.
Брессон последовательно отказывался от всех «искусственных» элементов в искусстве. Пока не отказался от искусства как такового. Брессон открыл и закрыл «трансцендентальный стиль». Он не имел и, наверное, не желал иметь учеников. И вместо многоточия поставил точку—без намека на возвращение.
Он умер в конце столетия. Последние шестнадцать лет своей жизни ничего не снимал. Отказавшись от искусства, Брессон сошел с дистанции—в тень. И, не желая оставлять после себя следов, стал одним из своих героев.
Журнальный вариант дипломной работы, защищенной на киноведческом факультете ВГИК в 2004 году и удостоенной приза журнала «Киноведческие записки».
1. Ш р е д е р П о л. Трансцендентальный стиль в кино: Одзу, Брессон, Дрейер.—«Киноведческие записки», № 32.
2. Там же.
3. Б р е с с о н Р о б е р. Заметки о кинематографе.—В сб.: Робер Брессон. Материалы к ретроспективе фильмов, М., Музей кино, 1994.
<…>
12. М а р и т е н Ж а к. Указ. соч., с. 233.
13. Б л а н ш о М о р и с. Пространство литературы. М., 2002, с. 20–21.
<…>
16. Б а х т и н М. М. Поэтика Достоевского, с. 271.
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.