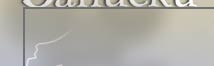|
 |
|
Федор ХИТРУК
1. Тверь 1917–1924
Я родился в Твери 1 мая 1917 года в семье рабочего. Отец был слесарем, после революции служил в Тверском губисполкоме (в продовольственном отделе—самом тяжелом и опасном), затем, уже в Москве, получил специальность инженера-cтанкостроителя. Оба моих брата пошли по стезе отца и тоже стали инженерами. Мама всю жизнь занималась домашним хозяйством. (В анкете обычно писала «не работаю»; не помню, чтобы она хоть минуту оставалась без дела).
По рассказам матери я был тихим, флегматичным ребенком. Меня можно было оставлять на долгое время одного, если дать в руки газету, которую я усердно рвал на мелкие кусочки. Не знаю, что бы это могло предвещать.
Уже в раннем возрасте я переболел всеми возможными болезнями—от кори до «воспаления легких с осложнением на мозг». Последним я особенно гордился.
Из собственных воспоминаний детства в памяти сохранилось не многое, но то, что осталось, засело прочно. Как на пленке у неудачливого фотолюбителя: все кадры засвечены и лишь несколько случайных снимков проявились отчетливо до мельчайших подробностей.
Память ведет странный отбор—не по важности событий, а по состоянию духа в тот момент.
Ясно вижу такую картину. Берег Волги, перевернутые вверх дном лодки, пахнущие смолой. По противоположному берегу, багровому от заката, взбираются стая гусей; их взволнованный гогот долгим эхом разносится над рекой. Я стою у самой кромки воды, держа в руке гладкий камешек. Бросаю его—и время вдруг останавливается. Стоп-кадр… Многое, куда более значительное, забылось, а то мгновение, когда камешек завис в воздухе, отпечаталось на многие десятилетия вместе с криком гусей и терпким запахом смолы.
Запахи почему-то больше всего запомнились, с ними у меня связаны самые яркие впечатления детства. Помню, например, сослуживцев отца, но не по их внешности, а по приятному аромату кожаных тужурок. Запомнился первый увиденный мной автомобиль: он стоял во дворе, тихо и угрожающе подрагивая, и от него исходил горячий запах кожи, масла и керосина. Потом в него сели люди и экипаж, так похожий на извозчичью карету, вдруг поехал—сам, без лошади! Я бежал за ним и с наслаждением вдыхал синеватый дымок.
<…>
Пишу, как отложилось в первоначальном восприятии, стараясь не реконструировать поздним осмыслением. Хочу проследить на собственном примере, как формируется сознание ребенка.
К самым ранним впечатлениям относится и город Бежецк, куда мы переехали, спасаясь от голода. Помню деревянный дом на склоне холма и сад, посреди которого торчало большущее пугало—на страх воробьям. Не знаю, как воробьи, а я этого пугала ужасно боялся и всегда держался от него подальше. Еще помню, как однажды (видимо, поздней осенью) в доме затопили печь, и из топки вдруг раздался жалобный писк—там оказалась кошка с целым выводком котят. Мама бросилась гасить огонь, комната наполнилась дымом, меня выгнали на двор. Что стало с кошкой, не знаю, но вид метущегося среди пламени животного запечатлелся на всю жизнь.
Опускаю прочие житейские подробности, столь же малозначительные. Расскажу о первых впечатлениях от встречи с искусством. Как я теперь понимаю, такие встречи для ребенка всегда потрясение.
Мне было лет пять, когда я впервые попал в театр. Не знаю, какой спектакль шел—наверно, «Аленький цветочек», судя по единственной оставшейся в памяти сцене. К умирающему Чудищу подходит девушка, нежно гладит его и, склонившись, целует безобразную голову… Вдруг все погружается в темноту. В душной пугающей тишине откуда-то сверху медленно опадают разноцветные звездочки. А когда свет снова загорается, Чудища уже нет—вместо него с пола подымается красивый молодец. Он протягивает девушке руки, та бежит ему навстречу и оба лепечут что-то непонятное… Дальше все забылось. Но до сих пор передо мной стоит эта картина: сбегающие ручейком звездочки и чудо превращения, свершившееся прямо у меня на глазах. Не так уж много требуется, чтобы потрясти воображение ребенка.
Но настоящее потрясение пришло от первой прочитанной книги (читать я начал лет с шести). Вернее, от второй—первой была сказка «Принцесса на горошине», которую я совершенно не понял: кто такая принцесса, почему она не могла заснуть на двадцати пуховиках, и почему ее за это так полюбили? Никакого сочувствия я к той принцессе не испытал, а потому и к сказке остался равнодушен. Если она чем-то запомнилась, так именно своей непонятностью. А вот вторая книга действительно потрясла.
Это была старинная восточная притча о том, как подружились два могучих гордых существа—царь зверей Лев и вольный Бык. И дружба их была такая же сильная, как они сами. Но появился шакал и стал разжигать между ними вражду. «Берегись,—говорил он быку,—лев похваляется убить тебя». А льву нашептывал: «Не доверяй быку, он посягает на твою корону». Кончилось тем, что лев и бык сошлись в смертельном бою, и оба погибли. Лишь перед смертью они узнали, что ни один из них не хотел нападать на другого. Собрав последние силы, лев задушил шакала…
Я много раз перечитывал эту сказку, все надеялся, что гордые звери не поверят шакалу. А они верили и погибали, и я ревел от горя. В конце концов у меня эту книжку отобрали и долгое время она не попадалась мне на глаза. Но я помню ее до сих пор, как одно из самых сильных переживаний детства, и—кто знает?—может быть, она впоследствии предостерегла меня от каких-то подлостей.
Спустя 60 лет, я снова нашел эту сказку и сделал по ней свой последний фильм «Лев и Бык».
Мы оберегаем детей от трагедий, не желая травмировать их психику. Это правильно, детские души легко ранимы. Но гораздо чаще мы травмируем их упреками, наказанием, или угрозой наказания за провинности, которые они не осознают. Сила нравственного урока, вся система моральных ценностей должна строиться на том, чтобы ребенок сам определял меру своей ответственности. В этом отношении сказка имеет большие преимущества перед другими формами внушения: она не обвиняет впрямую, не тычет ни в кого пальцем. Вот история про подлого шакала—это не про меня, здесь мне не нужно изворачиваться и оправдываться. Здесь я выступаю как судья и, не ведая того, сужу сам себя.
<…>
Первым рисунком был лихой красноармеец, которого я попытался скопировать с журнальной обложки, да так и не закончил. В дальнейшем любимыми мотивами стали корабли и особенно паровозы. Я и сейчас считаю паровоз одним из красивейших творений человека.
Но отношение к искусству было у меня скорее потребительское. Я мечтал не о карьере художника, а о том, чтобы иметь собственный склад, или даже целый магазин рисовальных принадлежностей—тюбиков с красками, карандашей и резинок, готовален, линеек. С этой мечтой я обычно и засыпал, причем с каждым разом воображаемые запасы мои пополнялись новыми предметами.
Серьезное увлечение рисованием пришло позже под влиянием журнальных иллюстраций. Тогда, в конце 20-х годов, несмотря на трудное время, выходило много интересных журналов: «Вокруг света», «Всемирный следопыт», «Мир приключений»—всех не перечислить. И были там замечательные художники. Некоторых помню по именам: Староносов, Фитингоф и больше всех полюбившийся мне Ник. Кочергин. Возможно, сейчас я расценил бы их работы иначе, но тогда они были для меня настоящими кумирами.
В этих журналах печаталось много фантастики, которой я зачитывалсябуквально взахлеб—глотал за обедом, за что мне порядком доставалось. С каким нетерпением ожидал каждый раз продолжения романа «Робинзоны Алеутских островов»! В нем рассказывалось о том, как путешественники, выброшенные бурей на необитаемый остров, сами голыми руками, без единого инструмента выстроили себе новый корабль и—мало того!—изготовили для него двигатель. Подробно описывался процесс добычи металла, отливки форм для цилиндров. Я читал это как самый захватывающий детектив. Увлекала, конечно, не техническая сторона, а стойкость и энергия этих людей, их умение перебороть, казалось бы, неодолимые трудности. Перефразируя товарища Сталина, могу сказать: «Эта штука посильнее Даниэля Дефо будет».
А пропо, о Сталине. Мне довелось несколько раз довольно близко наблюдать, как он проезжал в закрытом лимузине через Арбатскую площадь—тогда еще без эскорта. (Позже все парадные двери на Арбате, по пути его следования в Кремль будут наглухо заколочены). Тем же маршрутом часто следовал в открытом «Линкольне» нарком обороны Ворошилов, почему-то всегда с толстым портфелем на коленях. На картинках он выглядел намного воинственней.
Конечно, подобно всем ребятам, я обожал кино. Недалеко от нас, на Большой Никитской улице, находился кинотеатр «Колосс» (бывший Большой зал консерватории, каким он впоследствии снова стал). Я бегал в него, когда удавалось выпросить у мамы гривенник. Там впервые увидел мультфильмы, которые особого впечатления не произвели—не помню даже их названий. Они тогда вообще не пользовались популярностью, хотя—как я позднее убедился—у нас уже в те годы была интересная мультипликация. Зато комики Пат и Паташон, Монти Бенкс, Гарольд Ллойд были нам всем хорошо знакомы. Комедию Бастера Китона «Генерал» я смотрел несколько раз подряд, прячась между сеансами под креслами верхнего яруса, чтобы не платить вторично за билет.
Что еще вспомнить из тех лет?
По субботам в доме устраивался банный день. Нас с младшим братом Володей купали вместе в одной ванне, и мы по заведенному порядку каждый раз затевали драку; на шум приходил отец и, надавав обоим подзатыльники, натирал жесткой мочалкой наши спины. При этом ругал меня за худобу и в подтверждение очень больно проводил костяшкой пальца по моему хребту. Так что банный день обычно кончался для меня слезами. Поплакать я любил и делал это с упоением.
Зато как приятно было воскресным утром, лежа в теплой постели, слышать из кухни хлопотливую мамину возню с примусом. Сперва его приходилось долго накачивать, он сопротивлялся и визжал, скользя по чугунной плите, пока не раздавался громкий хлопок, вслед за которым шло ровное, умиротворяющее шипение пламени—знакомая музыка моего детства!
Наш сосед Толя Кутузов вечно что-нибудь мастерил. Я часами просиживал в его тесной каморке, помогая наматывать катушки для радиоприемника, или при слабом свете красной лампочки проявлять фотопластинки—он увлекался и фотографией. Помню, однажды мы взобрались на крышу нашего дома и снимали оттуда нескончаемую процессию, тянущуюся через всю площадь. Хоронили Маяковского.
3. Германия. 1931–1933
Лето 1931 года я провел на отдаленном хуторе в Тверской губернии у родственников Толи. Жил там почти как настоящий Робинзон: хозяева с рассвета уходили в поле, а я целыми днями пропадал в густом малиннике. Из такого дремотного состояния меня вырвала телеграмма: «Срочно возвращайся». Это было в конце июля, а в начале августа, я уже очутился…в Берлине! Так за одну неделю меня из глухого медвежьего угла вдруг перебросило в один из крупнейших городов мира.
А произошло вот что. Мой отец, инженер-станкостроитель, направлялся в Германию для приемки заказанных там машин. Поездка намечалась длительная, поэтому отца посылали вместе с семьей. Дома я застал лихорадочные сборы, но о предстоящем отъезде никто не говорил и узнал я о нем в последний день, когда пришли люди из жилотдела опечатывать нашу квартиру. Все это время я находился, как в трансе. Опомнился лишь на платформе Белорусского вокзала, когда увидел отца в фетровой шляпе. Кажется, явись он в кайзеровском шлеме, я удивился бы меньше, чем этой шляпе, настолько необычно она смотрелась на нем. Тут я впервые осознал, что в моей жизни наступают большие перемены.
<…>
Мы прибываем в Берлин. Огромный вокзал (кажется, это был «Zoo») оглушил нас лязгом железа, хлопаньем вагонных дверей и гулом голосов, усиленных многократным эхом. Первое, что я заметил, выходя на перрон, был громадный, во всю стену, рекламный щит с улыбающейся масляной физиономией Мустафы из фильма «Путевка в жизнь». Это несколько успокоило: как-никак, что-то свое.
Толстенный носильщик взвалил на себя наши пожитки и повел вниз. Снаружи вдоль вокзала выстроилась длинная очередь зеленых, опоясанных шашечками такси. Это тоже было ново: не мы стояли в очереди, а она сама ожидала нас. Такой же тучный таксист покидал багаж на крышу старомодного (даже по моим понятиям) авто и повез нас по нескончаемым улицам. Шел дождь, машины вереницей катили, шелестя по мокрому асфальту. Казалось, все было подчинено размеренному, раз и навсегда установленному порядку.
(14 лет спустя, в августе 45-го, я снова очутился на том же вокзале, наполовину разрушенном. Город встретил меня пустыми глазницами окон и грудами битого кирпича. Потом я еще несколько раз приезжал в Берлин. На моих глазах вокзал возрождался из руин. Но и поныне рядом с ним стоит обезображенный скелет церкви—как напоминание о войне)...
<…>
В Берлине мы пробыли месяца два, затем отца перевели в Дюссельдорф, промышленный центр Рурской области. У этого города свой запах: кисловатого дыма от плохо сгоравшего бурого угля. Мы поселились в квартире, обставленной ультрамодной мебелью обтекаемой формы (стиль «Stromlinie»). Наша хозяйка—фрау Гюнтер, пожилая рыхлая женщина с вечно заплаканными глазами, в первый же день объяснила маме причину своего траура: вся эта роскошная обстановка куплена ею в рассрочку и в случае несвоевременной уплаты будет конфискована (на этом месте рыдание). У нее великовозрастный сын—рослый детина с пунцовыми щеками, какие бывают только у чахоточных или у очень здоровых людей. Он безработный и потому целыми днями валяется на диване, слушая радио.
<…>
Кстати, коль скоро речь зашла о партийных салютах, расскажу еще об одной встрече с вождями. Как то раз, возвращаясь домой, я очутился в толпе, стоящей плотной шеренгой вдоль тротуара и выкрикивающей непонятные приветствия. Кто—то проезжал по улице на машине, и вместе с ним катилась волна криков. Когда эта волна дошла до меня, я увидел плывущую над толпой руку. Так я сподобился лицезреть живого Гитлера, хотя и не всего целиком. То, что это был Гитлер, мне открылось позже, когда в кинохронике он был показан с откинутой назад рукой в нацистcком салюте, причем фаланги пальцев были слегка согнуты. Вот по этим пальцам я его и узнал.
<…>
В конце лета мама повела меня устраивать на учебу. Я мечтал стать художником, поэтому она обратилась не куда-нибудь, а прямо в Академию искусств, расположенную в одном из пригородов Штуттгарта. Наивность вполне простительная: мы оба не знали, где учат рисованию.
Я стою в просторном коридоре Академии, ожидая, чем кончится разговор мамы с ректором. Весь коридор уставлен витринами, в которых размещены художественные изделия из стекла—дипломные работы студентов. Мог ли я тогда предположить, что через 60 лет снова окажусь в той же Академии,—уже как преподаватель,—и увижу на том же месте те самые витрины. За это время прошла война, город был почти целиком разрушен и возрожден заново, а стекляшки сохранились и, как ни в чем не бывало, продолжали украшать академические коридоры. Чисто немецкий педантизм.
В Академию меня, естественно, не приняли, но посоветовали обратиться в другое заведение—художественно-ремесленное училище, расположенное в центре города, между кладбищем и баптистским монастырем. Туда меня зачислили сразу: обучение было платное, брали всех желающих.
Я занимаюсь на отделении промышленной графики. У нас два педагога. Первый, г-н Шобингер, наш общий кумир—утонченный художник с бабочкой на груди и в широкополой шляпе, какие носят настоящие артисты. Он пишет абстрактные картины и читает нам мудреные лекции о ритме линий, пятен и цвета. Второй, г-н Ромбах, полная ему противоположность: толстяк с густыми черными бровями, пронзительным голосом и с манерами мелкого торговца. Ярый натуралист—его идеал Карл Шпицвег. Между этими двумя наставниками я и болтаюсь, раздираемый противоречивыми чувствами. Все мои симпатии на стороне г-на Шобингера, хотя я ничего не смыслю ни в его живописи, ни в проповедях. И, наоборот: мне абсолютно не нравится г-н Ромбах, однако его художественные пристрастия я полностью разделяю. Стихийно меня влекло к натурализму—я мог с упоением срисовывать посеребренную дождями и временем дверь старой лачуги, или засохшую ветку дерева, оттушевывая до мельчайших подробностей каждый сучок и трещинку. Дюреровский «Заяц» был и остался до сих пор моим идеалом
Еще одной моей страстью были животные. Иногда я целыми днями пропадал в местном зоопарке, делая зарисовки волков и обезьян (кажется, других зверей там и не было). Много позже мне это помогло стать аниматором.
Никто от меня ничего не требовал, Мои одноклассники, все намного старше меня, уже определили себе специальность—кто в полиграфии, кто в керамике, и соответственно выбирали темы учебных работ. Я был вольной птицей и занимался, чем хотел.
«В те дни, когда в садах лицея...»—эти пушкинские строки невольно лезут в голову при воспоминании о моем пребывании в Штуттгарте. Именно тогда во мне начали, говоря высоким слогом, формироваться взгляды на жизнь, на искусство. Я часто бродил по склонам Дегерлоха, читая вслух цитаты из Нового Завета. Должен сказать, что тот период был отмечен для меня увлечением Евангелием. Не то, чтобы я впал в религиозность—меня захватил сам стиль библейских изречений (я уже достаточно владел немецким): «Und da antwortete er und sprach—wahrlich sage ich euch…» («..И сказал он в ответ: поистине, говорю вам»). В этих словах было столько простоты и убежденности!
Возникло это увлечение так. Однажды в училище пришли монахи из соседнего монастыря и предложили всему нашему классу конкурс на серию рисунков, посвященных Рождеству Христову. Лучшие работы обещали опубликовать в своем журнале. А в помощь дали каждому из нас по маленькой книжечке—лютеровскому изданию Нового Завета.
<…>
До сих пор удивляюсь, как мне удалось выполнить заданные сюжеты—причем, в технике гравюры на линолеуме, мне почти незнакомой. Еще большей неожиданностью явилось то, что я выиграл этот конкурс. Да-да: мои рисунки были напечатаны в монастырском альманахе и мне выдали премию—40 марок! Когда я принес домой журнал и премию, родители страшно переполошились и велели тут же уничтожить рисунки, а деньги вернуть в школу. По своей наивности я тогда еще не соображал, какими неприятностями могло обернуться мое творчество для папы. Журнал я все же спрятал (к сожалению он не сохранился), а награду—мой первый в жизни гонорар—пришлось отдать обратно.
<…>
Наступал 1933 год—год прихода к власти Гитлера. Далекий от политики, я все же ощущал возрастающее напряжение. Особенно заметно это стало, когда все чаще начали меняться премьер-министры—разные там Шляйхеры и фон-Папены. Правительственные кабинеты уходили в отставку чуть ли не каждый месяц. Но вот во всех журналах и газетах появилась фотография: Гитлер в форме СА склонил стриженый затылок перед сонным усатым генералом Гинденбургом (тогдашним президентом Германии), почтительно пожимая его руку. И все!—кабинетная чехарда разом прекратилась. Последняя журнальная картинка из той серии изображала нового рейхсканцлера в окружении министров—он уже в штатском, сидит, закинув ногу на ногу, а из-под брюк выглядывают штрипки от белых кальсонов (эта деталь особенно врезалась в память)
Первым же шагом новой власти было объявление на три дня свободы митингов и демонстраций. Чем не замедлили воспользоваться коммунисты и социал-демократы. Я помню, как по центральной улице Людвигштрассе сплошным потоком шли люди с красными знаменами и призывами против новоявленного правителя. А потом наступила развязка: оказалось, все эти три дня на каждом углу стояли специальные агенты и аккуратно регистрировали особо активных манифестантов. На четвертый день их арестовали. Просто и без лишних хлопот…
(В искусстве вылавливания внутренних врагов нацисты не уступали нашему НКВД. Во время войны они не отбирали радио у населения, зато придумали хитрый способ хватать людей, тайно слушавших БиБиСи: среди ночи отключали во всем доме электричество, затем врывались в квартиры и первым делом проверяли на какой волне настроен приемник).
Перемены коснулись и нашего училища. Теперь перед началом занятий студентов собирали в актовом зале на «утреннюю молитву»: зачитывали короткие рапорты, затем все вставали и пели нацистский гимн «Die Fahne hoch». Я чувствовал себя очень неуютно—вставать отказывался, сидеть стеснялся. В конце концов, меня освободили от этой процедуры.
На верхнем этаже училища помещалась оранжерея, где мы проводили долгие часы за рисованием растений (мне особенно нравились кактусы). Часто во врем таких занятий затевались политические споры, доходившие до серьезных стычек. В одной из них участвовал и я, за что и пострадал. Началось с того, что сидящий рядом со мной парень стал всячески поносить Маркса. Я, хоть и не смыслил ничего в марксизме, все же посчитал себя обиженным и выпалил сгоряча: «а твой Гитлер вообще говно!» (по-немецки это звучит сильнее: «Scheisdreck»). На что мой сосед немедленно отреагировал—взял да и полоснул меня перочинным ножичком, которым точил в это время карандаш. Прямо по запястью руки—как раз там, где проходит артерия. Едва ли Бруно (кажется, так звали этого парня) хотел меня поранить, потому что испугался больше всех, когда из моей руки фонтаном брызнула кровь. Рана оказалась не серьезной—меня тут же отвели в больницу, поставили клеммы, и я к своему удовольствию неделю ходил с перевязанной рукой. Мне даже выплатили страховую премию—опять 40 марок, от которых я тоже отказался, чем немало возвысил себя в глазах всего класса. На эти деньги была куплена автоматическая точилка для карандашей—как бы во избежание дальнейших несчастных случаев. А я мог причислить себя к первым жертвам фашизма. Шрам тот еще остался на моей руке.
Среди одноклассников было у меня два закадычных друга: Эрнст Люмпп, крепкого сложения парень, учивший меня гимнастическим упражнениям, и Кристиан Вайсс, с которым я часто совершал велосипедные прогулки в его родную деревню Деффинген, знаменитую тем, что там при Наполеоне состоялась историческая битва. В этой деревне отец Христиана содержал трактир, где нам в каждый приезд подавали «Шпацле»—очень вкусную еду, напоминавшую русские щи. К обоим этим приятелям у меня сохранилась ностальгическая привязанность. Во время войны мне не раз приходила мысль, что я могу подстрелить их. Или они меня.
<…>
После двух с половиной лет пребывания за границей на меня, уже отвыкшего от российских порядков, сразу наваливается труднейшее задание: запастись на зиму дровами (у нас, как и в большинстве арбатских домов, печное отопление). Обычно этими делами занимался отец или старший брат, а тут вдруг поручили мне. Со специальными талонами отправляюсь на Смоленскую площадь, разыскиваю дровяной склад, получаю положенные полтора кубометра чурок, нанимаю подводу и везу домой. Затем надо было еще расколоть дрова и сложить их в отведенное место (для каждой семьи во дворе имелся отдельный сарайчик), а несколько вязанок притащить к нам на третий этаж. Обледенелые поленья, словно издеваясь, норовят выскользнуть из вязанки и рассыпаться по всей лестнице. С чувством обреченного мученика я возвращаюсь каждый раз вниз и подбираю их. А в голове неотвязчиво вертится глупая, но очень популярная в те годы песенка:
«Я тебя люблю,
Дров тебе куплю,
Я куплю тебе два воза,
А дрова одна береза.
Будем греться без конца, ламца-дримца гоп ца-ца!!»…
Удивительно, как, при моей болезненной робости и непрактичности, да еще избалованный западным комфортом, я смог все это одолеть—не потеряться в дикой руготне, суете и неразберихе, без чего у нас вообще ни одно дело не делается.
Следующим моим серьезным шагом было устройство на учебу. После Штуттгарта сомнений в выборе профессии не было: я твердо решил стать художником-иллюстратором.
<…>
В техникуме я продержался недолго: в конце 1936 года меня отчислили за прогул. Дело в том, что мы с Федей нашли выгодную «халтуру»—подрядились украсить к ноябрьским торжествам здание Наркомлегпрома. Работали целую неделю без отдыха, спали прямо на кумачовых лозунгах. Конечно, о занятиях не могло быть и речи. Мы были не одни такие доходяги: на подобных празднествах подрабатывали многие студенты, и им это как-то сходило с рук. Но я был с детства невезучий—меня турнули…
Несколько месяцев я скрывал от родителей этот позорный факт. Каждое утро аккуратно уходил из дому, шатался без дела и возвращался только к обеду. Не совсем без дела: я искал подходящее место работы или учебы. Что было не просто—ведь у меня не было справки даже о начальном образовании. Наконец, такой адрес нашелся, мне подсказал его Федя Лемкуль: Институт повышения квалификации художников-графиков.
«Институт» звучит громко, на самом деле то были двухгодичные курсы, где занимались уже вполне профессиональные художники. Достаточно сказать. что в числе курсантов был знаменитый карикатурист Сойфертис. Размещалось сие заведение почти рядом с нашим домом—на улице Знаменка в бараке, каким-то чудом сохранившемся до сих пор. Документов там не требовалось, принимали всех желающих.
Меня зачислили без экзаменов и тут же выбрали старостой просто потому, что я был намного моложе остальных, нигде не работал, следовательно, мог выполнять нехитрые обязанности, возлагаемые на эту должность—готовить класс к занятиям, составлять ведомости по оплате натурщиков.
Это время моего пребывания в институте вспоминается с особым удовольствием. Мне было предоставлена полная свобода. Никто с меня ничего не требовал, я находился в окружении солидных людей, которые обращались ко мне на «Вы», в том числе и сам преподаватель Николай Николаевич Вышеславцев.
На нашем курсе обучался пожилой художник, работавший на киностудиимультипликационных фильмов—я и не подозревал, что в Москве есть такая студия. Однажды, присмотревшись к моей манере рисовать, он сказал:
—Попробуйте толкнуться к нам на студию. У вас есть данные.
Какие данные—не объяснил. Видимо, он имел в виду мою привычку рисовать очень быстро. Привычка эта у меня появилась еще в Штуттгарте во время походов в зоопарк—ведь звери не будут вам позировать, они в постоянном движении.
И я решил «толкнуться». Зачем?—сам не знаю. Скорее всего из любопытства. Я уже говорил, что к мультфильмам относился довольно индиферентно. Правда, один раз у меня состоялась с ними памятная встреча.
Было это летом 1935 года, когда в Москве проходил Международный кинофестиваль. На этом фестивале вместе с игровыми картинами показывали короткометражные мультипликационные ленты режиссера Уолта Диснея—«Микки-дирижер», «Три поросенка» и третью не помню, кажется, «Забавные пингвины». Фильмы эти сразу завоевали популярность у публики: вся Москва распевала песенку из «Трех поросят»—«Нам не страшен серый волк».
Что до меня, то я был ими просто ошарашен. Особенное впечатление произвел «Микки-дирижер». Каскад трюков, безудержная фантазия, гармоничное слияние звука с изображением и главное—абсолютная достоверность происходящего! Сцена, когда смерч подхватывает в воздух целый оркестр и кружит его в головокружительном вихре, производила по-настоящему магический эффект. Из кинотеатра я вышел удивленный и растерянный. Именно необъяснимость увиденного поражала больше всего—кто мог сотворить такое?
Со временем впечатление улеглось, вытесненное другими интересами. Фильмы остались в памяти, как некий феномен. Или фокус... Но оказалось, что «вирус мультипликации» в меня все-таки попал.
7. Студия «Союзмульфильм». 1937
В Москве, неподалеку от Кудринской площади, стояло строгое серое здание в стиле конструктивизма. Одну часть его, выходящую на Поварскую улицу, занимал кинотеатр. Другая, обращенная в сторону Садового кольца, была в 1936 году отдана только что организованной киностудии «Союзмультфильм».
Дом этот стоит там и поныне. Нет в нем теперь ни студии, ни кинотеатра. Но каждый раз, когда я, проезжая мимо, вижу в глубине двора три больших окна нашей «41-й комнаты», меня охватывает такое чувство, будто после долгих лет я вернулся в дом, где родился и вырос. В известном смысле он и был для меня таким. И не для меня одного.
Впервые я попал туда 65 лет назад (когда я начинал эту книгу, здесь стояло: «35 лет назад». Потом периодически переправлял на 45, 55, и вот добрался до 65. Не уверен, что это будет окончательное число). Попал довольно случайно: к анимации особой тяги не испытывал и к профессии этой не готовился. Даже представления о ней не имел. В детстве были разные увлечения: мечтал быть то актером, то писателем, то музыкантом, то авиаконструктором—да мало ли о чем мечтают мальчишки? Раньше всего проявилась склонность к рисованию. Она оказалась самой устойчивой…
В один майский день 1937 года (мне как раз исполнилось двадцать лет) я впервые переступил порог студии «Союзмультфильм»... А четверть часа спустя шагал через тот же порог обратно. Меня не приняли. Даже не посмотрели мои работы—я прихватил с собой несколько рисунков, на мой взгляд, наиболее эффектных. Начальник производства Николай Васильевич Башкиров, человек с лицом Мефистофеля и с добрейшей душой (что я оценил много позже), спокойно сказал: «Мультипликаторы сейчас не требуются». Словно речь шла о дворниках или водопроводчиках.
Вот тебе раз! По дороге на студию я все думал, зачем мне нужна мультипликация, а выясняется, что это я ей не нужен.
На этом можно было бы и успокоиться. Попробовал—не вышло. Что за беда! Серьезных намерений у меня все равно не было, как и больших надежд. А все же досада осталась. Мне вдруг запало в голову, что мои прежние мечты—стать музыкантом, актером, художником,—все они соединились в одном искусстве, и именно оно оказалось для меня недоступным. С этого момента я был уверен, что всегда любил мультипликацию и что я рожден для нее.
Через несколько месяцев я повторил попытку и снова получил отказ. Меня это не обескуражило: при всей лености я был достаточно упрям. К тому же на студии я встретил бывшего одноклассника, который теперь работал мультипликатором. Значит, не боги горшки обжигают!
Поздней осенью «Союзмультфильм» объявил конкурс на замещение должности художника-мультипликатора. Я уже не шел, а бежал на Кудринскую площадь.
На конкурс явилось человек тридцать. Все люди серьезные, не мне мальчишке чета. Настроение сразу упало. Нас усадили за стол и предложили сделать раскадровку, т.е. серию рисунков типа комиксов, на тему одной из басен Крылова. Я выбрал «Мартышку и очки»—обезьян я часто рисовал в зоопарке и научился схватывать их позы, как говорится, с лета. Пока остальные расчерчивали рамочки для рисунков, я сделал десятка два картинок. Сижу, томлюсь в ожидании—уходить боязно, без дела сидеть неловко. Принялся за другую басню—«Волк на псарне». Закончил и ее. Смотрю по сторонам: люди вдумчиво строят композиции, растушевывают каждый рисунок. Я окончательно скис.
Вероятно, у меня был очень несчастный вид, поэтому один из экзаменаторов забрал мои рисунки и шепнул, что я могу идти, результат мне сообщат по почте... И я ушел. Как мне казалось—навсегда.
А недели через полторы вдруг приходит открытка с сообщением о том, что я зачислен в штат студии в качестве стажера.
Это случилось 10 ноября 1937 года. Дату я хорошо запомнил. По странному совпадению ровно через десять лет я вернулся на студию после службы в армии и должен был начинать все с нуля. А еще через пятнадцать лет, почти день в день, я закончил свой первый фильм как режиссер. Но все это далеко впереди. А пока я даже не мультипликатор, а только стажер. И безмерно счастлив.
<…>
9. Борис Дёжкин
Горечь собственных неудач заставила присмотреться к работе других—как же у них получалось? Преодолев робость, я стал подходить то к одному столу, то к другому и заглядывать через плечо к тому, кто как работает. И постепенно начал замечать, что работают мультипликаторы не одинаково, у каждого своя манера, свой секрет, что ли. Особый интерес вызвал у меня Борис Петрович Дёжкин.
Первый месяц моего пребывания на студии Дёжкин почему-то отсутствовал, но разговоров о нем было столько, что он уже заочно представлялся мне личностью почти легендарной. А когда я увидел его и познакомился ближе, понял—говорили о нем не зря.
Что бы он ни делал, все выходило у него легко, акробатически ловко (он в самом деле был превосходный акробат) и как-то особо артистически. Даже карандаш брал не просто: положит его на край стола, ударит по кончику, поймает на лету и только тогда начинает рисовать.
Работал Дёжкин виртуозно. Я помню почти все созданные им сцены, потому что часами простаивал у него за спиной, наблюдая за бегающим в его руке карандашом. Это было настоящее чудо: рисунок возникал как-то сразу—еще не видно ни головы, ни ног, а движение уже угадывалось.
Сцена рождалась буквально на глазах. Я смотрел, затаив дыхание и боясь шелохнуться, чтобы не разрушить это чудо. Между тем сам Дёжкин поминутно вскакивал, убегал куда-то, возвращался и продолжал рисунок на прерванной линии, ни секунды не задумываясь.
Однажды на концерте я видел, как Рихтер быстрыми шагами вышел на сцену и, едва сев за рояль, сразу заиграл сложнейший этюд. Иному пианисту нужно сперва примериться к инструменту, сосредоточиться, поглядеть в потолок. Рихтеру этого не нужно—он настолько мобилизован, что может мгновенно включиться в музыку. Так и Дёжкин—у него вся сцена была готова еще до того, как он брался за карандаш. Не знаю, проигрывал ли он ее заранее, но впечатление складывалось такое, будто он видел наперед каждую фазу в отдельности и все действие в целом.
Дёжкинские сцены запомнились мне еще потому, что многие из них рождались на моих глазах дважды: первый раз на столе художника и второй раз на экране. И это второе рождение удивляло еще больше—насколько безошибочно предугадывал Дёжкин не только последовательность, но и сам ритм движения! Такого чувства времени (а время в мультипликации измеряется десятыми долями секунды) я больше ни у кого не наблюдал. Можно ли этому научиться? Не знаю. По-моему, у Дёжкина это было врожденное качество—мультипликатор Божьей милостью!
Мои стояния за спиной Дёжкина были первой настоящей школой. Хотя с каждым днем я все больше убеждался в своей неспособности. На моего утенка я уже не мог смотреть: мы оба до смерти надоели друг другу. Так пришло третье, самое горькое разочарование. Я разочаровался в самом себе.
10. Моя первая сцена
Взять высоту с наскока не удалось. Оказывается, в мультипликации кроме умения рисовать и фантазии требовалось еще громадное терпение. Мне его как раз не хватало. Я уже подумывал, не уйти ли по-хорошему, пока не выгнали? Но признать себя побежденным не позволяло самолюбие. Или, недоставало решимости. А, кроме того, мне нравилось здесь! Нравилась шумная 41-я комната, люди, с которыми я успел познакомиться; фильмы, которые я успел посмотреть. «Шумное плавание» режиссера Владимира Сутеева мог глядеть без конца. Глядеть и завидовать тем, кто его делал.
Я научился узнавать на экране мультипликаторов. Не только Дёжкина (его легко было отличить), но и Бориса Титова, Лидию Резцову, Григория Козлова, Фаину Епифанову. В сценах угадывалось сходство с их характерами, хотя персонажи были все разные и совсем не похожи на своих создателей. Титов обладал особым, «тихим» юмором—такими же были его сцены. Резцова—добродушная, смешливая, у нее и движение персонажей широкое, размашистое. У каждого мультипликатора своя манера поведения, и это как-то непроизвольно передавалось на экран.
Мне нравилось на студии все, кроме меня самого. Я впал в меланхолию. Смотреть на своего неродившегося утенка было тягостно, я бросил его и стал бродить по студийным цехам, проводя больше всего времени в просмотровом зале,—глядел чужие сцены, слушал чужие разговоры, в которые не мог включиться. Или пробирался через служебный ход в кинотеатр, который находился в том же здании.
В таком неприкаянном состоянии я пребывал несколько месяцев. Неизвестно, чем бы все кончилось, если бы не один случай, сам по себе пустяковый, но, как часто бывает в неустойчивой ситуации, оказавшийся поворотным моментом в моей судьбе.
Профоргом 41-й комнаты, где размещался весь цех мультипликаторов, была Фаина Георгиевна Епифанова, женщина властная и весьма эффектная—все мужчины были в нее влюблены, а я так еще и побаивался. Как-то раз она поинтересовалась, где я пропадаю целыми днями. Я сослался на учебу в институте (занятия я действительно посещал, но по вечерам). Обман легко раскрылся, и Епифанова решительно—да еще при всех—заявила: «На студию ходят не киношку смотреть, а работать!» Тут, кажется, вся 41-я комната впервые обратила на меня внимание. Никогда я не подвергался публичной экзекуции, да еще такой несправедливой. Мультипликация была для меня восторженным увлечением, неразделенной любовью, драмой души. А тут—работа! Я был обижен до крайности. Надулся, сижу, трагически кусаю карандаш, одним словом—работаю. Без всякого успеха: утенок так и не двигается с места, чтоб он пропал.
<…>
В то время она разыгрывала большой эпизод в картине Сутеева «Муха-Цокотуха». Настоящая массовка: муха едет на базар в сопровождении многочисленной свиты насекомых. Некоторых из них Фаина Георгиевна поручила делать мне. С каким удовольствием я расстался с ненавистным утенком и принялся за новое задание!
Работу свою я сдал довольно быстро и почти без поправок, постаравшись придать каждому жучку какой-нибудь характер: одни у меня хромали, другие приплясывали Потом на просмотре фильма я тщетно искал своих букашек в общей толпе. Кажется, никто их даже не заметил. Тем не менее, работа была сделана и она вернула мне веру в себя. А это было главное.
Вскоре я получил самостоятельное задание, опять в фильме Сутеева «Дядя Степа». Сцена такая: старый дворник в ушанке и огромных валенках подметает двор и при этом приговаривает на каждом шагу: «О-хо-хо!..» Богатый монолог.
Ну и помучился я с этой сценой! Походка человека вообще трудна в анимации, да еще если персонаж шагает на зрителя. Мне бы и сейчас далось это нелегко, а тогда и говорить нечего: месяц просидел, не отрываясь от стула. Но то были мучения совсем иного рода, чем с утенком, которого я просто не чувствовал. А дворника я ощущал всем телом, на время даже стал им самим.
Я сказал, что месяц не отрывался от стула. Это неправда: отрывался и очень часто—чтобы пройти походкой дворника, почувствовать ревматическую боль в его ногах, обутых в тяжелые валенки. Делать это при всех стеснялся. Поэтому выходил в коридор и, когда там никого не было, ковылял, переваливаясь с боку на бок, размахивал воображаемой метлой и кряхтел: «О-хо-хо! О-хо-хо!» И страшно надоел всем.
Но вот сцена закончена и сдана режиссеру. Вопреки моим опасениям, Сутеев полистал ее и отправил в фазовку без всяких замечаний. А я стал ждать, когда ее покажут на экране.
В производстве рисованного фильма интервал между сдачей сцены и ее и просмотром на экране довольно велик: пока сделают промежуточные фазы, пока снимут и проявят пленку—проходит неделя, а то и больше. Мне этот интервал казался вечностью: со страхом и нетерпением бродил я по студии, не находя себе места, точно будущий отец, томящийся под окнами родильного дома.
И вот он наступил, этот день: меня позвали в просмотровый зал. Сперва смотрели пробы других мультипликаторов и долго обсуждали их. Хотя что там было обсуждать, когда сейчас должна пойти моя сцена... Истомленный ожиданием, я даже не сразу заметил, как он появился на экране—мой родной дворник. Замахал метлой и пошел в своих нелепых валенках. Сам пошел, без меня! Ожил и заговорил!!
Это было непостижимо. Рисунки, которые целый месяц маячили перед моими глазами, вдруг соединились в незнакомого мне человечка, и тот зажил собственной жизнью. Произошло чудо, и я оказался к нему причастным.
Не помню, как отнеслись к моей сцене режиссер и все остальные. Кажется, похвалили. В тот момент я вообще ничего не видел вокруг себя. Из зала вышел, шатаясь, как пьяный, и должен был держаться за стенку, чтобы не упасть.
Были у меня потом сцены более удачные и более сложные. Но никогда больше я не испытал такого беспредельного, головокружительного счастья, как в тот раз.
Жаль, что к чуду привыкают. А анимация все-таки чудо. И если художник перестает удивляться ей—это потеря для него и для тех, кого он призван удивлять.
Много лет спустя мне довелось побывать у знаменитого канадского режиссера Нормана Мак-Ларена. Он показал мне на монтажном столе кусок из фильма «Па-де-де», над которым тогда работал.
Прокрутив пленку, Мак-Ларен повернулся ко мне и с детской радостью воскликнул: «Смотрите, двигается!» Словно впервые увидел кино, и не было за его плечами ни десятков сделанных фильмов, ни тридцати лет работы в кино, ни славы первооткрывателя новых видов анимации.
Я искренне позавидовал ему. Не славе его и не открытиям, а тому, что он не утратил способности удивляться и радоваться этому чуду.
<…>
12. Война
Весной 41 года с 19 тыс. рублей, спрятанными у меня на животе (чтобы в дороге не украли) мы возвращаемся в Москву. После Еревана, с его безумными рыночными ценами, эта сумма казалась настоящим капиталом: благодаря обилию товаров из прибалтийских стран, только что «присоединившихся» к СССР, рубль стал почти валютой. Мы обзаводимся рижской мебелью, делаем ремонт нашей 11-метровой комнаты на Цветном бульваре с окном, упирающимся прямо в кирпичную стену. Нас, блудных сыновей, принимают обратно на студию. Месяца два мы живем в полном блаженстве.
Ранним воскресным утром 22 Июня я, еще лежа в постели, включил ногой свой радиоприемник «Пионер» и поймал заграничную станцию. Но вместо обычной музыки услышал сквозь шум и треск истеричный голос, кричавший что-то по-немецки. Смог разобрать только отдельные слова: «.. я долго терпел…пришел час..». Я узнал голос Гитлера и понял, что началась война.
Слухи о предстоящей войне с Германией уже шли, хотя официально об этом не говорилось ни слова... Вспоминаю, как однажды в буфете режиссер Дмитрий Бабиченко на мой вопрос, будет ли война, спокойно ответил, как оделе давно решенном: «конечно, будет!». Вообще я не замечал у людей какого-либо страха. Все верили, что война продлится не долго и кончится легкой победой. Так уверяли нас фильмы, радиопередачи, книги, газеты и особенно бодрые песни типа «Любимый город может спать спокойно!». Дорого нам это потом обошлось.
Все последующие месяцы и годы, вплоть до конца войны, прошли для меня как дурной сон, или как фильм по очень плохому сценарию: в безумной сутолоке, лишенной всякой логики. В ополчение меня не послали, так как я подлежал призыву, а в армию пока не брали из-за того, что у меня обнаружился порок сердца. А пока, в ожидании своей судьбы, я включился в гражданскую оборону и дежурил вместе с другими на крыше студии во время воздушных тревог. Пока только тренировался: первый месяц бомбежек не было.
В перерывах между дежурствами мы лихорадочно делали фильмы—короткие сатирические журналы, сюжеты которых придумывались прямо на ходу и тут же реализовывались. Смутно помню их содержание—в основном такое же шапкозакидательство, как и все, что делалось тогда по линии пропаганды. Сюжет одного из них мы придумали вместе с Борисом Дёжкиным и делали под руководством знаменитого художника-карикатуриста А.А.Радакова: там какое-то чудовище со свастикой на пузе вгрызалось в утес (имелся в виду Советский Союз) и в конце оказывалось погребенным под его обломками. Мы сами не обратили внимание на двусмысленность такой ситуации, но нас вовремя поправили, где нужно, и фильм прикрыли.
22 июля немцы начали бомбить Москву. Одна из первых бомб попала прямо в студийный склад и разбила проявочную машину, только что полученную из Германии (ирония судьбы!). Другая упала неподалеку от студии и разрушила прекрасное здание Книжной палаты. Последующие ночи (бомбили в основном по ночам) мы бегали по крыше студии с щипцами в руках и прикрывшись железными листами. В нашу задачу входило гасить зажигательные бомбы в чанах с водой. Вскоре мы узнали, что гасить их нужно было в песке, а от воды они взрывались с удвоенной силой. К счастью ни одна из них на нас не упала.
В одну из таких ночей я стал свидетелем апокалипсической сцены. Горело где-то в Замоскворечье. На фоне багрового неба, прорезанного лучами прожекторов, чернел силуэт кремлевских башен. А над ними металось гигантское чудовище—это аэростат воздушного заграждения, сорвавшись с тросов, описывал круги, то возносясь вверх, то утопая в мареве. Подсвеченный снизу, он походил на смертельно раненое животное. Фантастическая картина в духе Босха.
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь.
|
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.