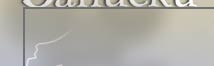|
 |
|
Анастасия ВЛАДИМИРОВА
Ален Рене и Ален Роб-Грийе… Один из ярчайших лидеров «новой волны» и идеолог «нового романа» одновременно пришли (каждый своим путем) к пониманию необходимости преобразования в отображении пространственно-временного континуума, а затем встретились на съемочной площадке, чтобы создать фильм «В прошлом году в Мариенбаде»—одну из самых спорных, загадочных и, несомненно, талантливых лент мирового кинематографа. Эта картина стала закономерным этапом творческой эволюции обоих авторов—в ней мирно уживаются черты предыдущих киноработ Рене и мотивы, характерные для романов Роб-Грийе пятидесятых годов. Работая над фильмом, сценарист и режиссер обнаружили удивительное согласие во взглядах. Казалось бы, «Мариенбад» мог положить начало новому творческому союзу, однако этого не произошло—объединившись однажды, в дальнейшем они уже не будут работать совместно, хотя отдельные «лексические единицы» их киноязыка будут перекликаться и невольно побуждать к сопоставлению. Быть может, повторная встреча творцов не состоялась лишь потому, что Роб-Грийе решил заняться режиссурой самостоятельно? Однако так ли похожи их установки, как это может показаться на первый взгляд? Правомерно ли говорить о тождественности стилей этих авторов, основываясь на визуальном сходстве их картин? А быть может, в
Журнальной вариант дипломной работы, удостоенной приза «Киноведческих записок» в 2004 году.
воззрениях и методах Рене и Роб-Грийе вообще нет практически ничего общего, и их сотрудничество—не более чем случайность?
Для того чтобы ответить на эти вопросы, необходимо подробно рассмотреть фильм «В прошлом году в Мариенбаде» и попытаться проследить, как в нем реализуются идеи и устремления режиссера и сценариста, а затем проанализировать те пути, которые они избрали в дальнейшем. Но сначала обратимся к более раннему периоду творчества ведущего режиссера «новой волны» и одного из лидеров «нового романа», чтобы понять, каким образом каждый из них подошел к совместной постановке.
До «Мариенбада» К моменту выхода на экран «Мариенбада» Ален Рене был уже сложившимся, получившим признание кинематографистом с характерным, узнаваемым режиссерским почерком. Правда, известность он приобрел прежде всего как постановщик неигровых фильмов, но уже была снята и получившая широкий резонанс лента «Хиросима, любовь моя» (1959), удостоенная премии ФИПРЕССИ на Каннском фестивале и премии критики в США.
За четыре года до этого Рене снял документальный фильм об Освенциме «Ночь и туман» (1955), работа над которым стала для него первым опытом сотрудничества с писателем Жаном Кейролем. Современные кадры мест, где когда-то были концентрационные лагеря, монтировались с кинохроникой и фотографическими материалами, и их столкновение вызывало трагический эмоциональный разряд, силу воздействия которого умножал звучащий за кадром текст. Затем последовала картина «Вся память мира» (1956), снятая по заказу Французской национальной библиотеки.
В 1958 году, в год зарождения «новой волны», Комитет истории II мировой войны обратился к Рене с предложением снять полнометражный художественный фильм о Хиросиме. В тесном сотрудничестве с писательницей Маргерит Дюрас он приступает к работе, результатом которой становится картина «Хиросима, любовь моя» (1959). Эта лента словно бы стала эманацией темы памяти, явившейся не только основой сюжета, но и своеобразной точкой отсчета его экранного воплощения, выразившегося в слиянии хронологически разрозненных событий в некий пространственно-временной континуум.
<…>
Плодом совместных усилий режиссера и сценаристки стал фильм о памяти, заставляющей вновь и вновь проходить через боль и отчаяние, которые, казалось бы, давно остались позади. Свободно перемещаясь во времени, переносясь из Хиросимы в Невер, Рене устанавливает между этими пространствами особую связь. Личная трагедия француженки (Эмануэль Рива), в годы войны полюбившей немца-оккупанта и потерявшей его навсегда, перекликается не только с зарождающимся на наших глазах чувством к герою Эйджи Окада, но и с ужасающими событиями в Хиросиме 1945 года, отзвуки которых ощутимо присутствуют и в мирном времени конца пятидесятых. Режиссер не ставит между этими событиями знак равенства да и вообще не пытается их сопоставить. Он просто пропускает запечатлевшиеся в сознании героини моменты юности сквозь призму общечеловеческой драмы, и тонкий, меркнущий лучик воспоминаний о Невере, преломившись и повергнувшись дисперсии (спектральное разложение), внезапно вновь как бы набирает силу и вспыхивает всей гаммой эмоций. В этой гамме всепоглощающая боль, порожденная одержимой потребностью вновь и вновь мысленно переживать былое, сочетается с не менее мучительным стремлением ухватиться за воспоминания, а страдание от осознания безвозвратности утерянного—с желанием навеки сохранить образ любимого человека. Как говорил в одном из интервью сам Ален Рене, «в фильме противопоставляется огромное, неизмеримое, фантастическое событие в Хиросиме и крошечная историйка в Невере, которую мы видим как бы сквозь Хиросиму—подобно тому, как пламя свечи, если смотреть через увеличительное стекло, предстанет перед нами увеличенным и перевернутым вверх ногами»[1].
Тема памяти не просто пронизывает сюжет, но и становится основополагающим принципом организации материала. Все—от малейших движений камеры до монтажного решения ленты—подчиняется прихотливым законам человеческого сознания. Так, чтобы разрушить пространственно-временные границы, режиссер прибегает к ассоциативному монтажу. При этом соединение кадров может происходить через тождество жестов (прижавшись к матери в эпоху Невера, героиня тут же «оказывается» в объятиях японца в сегодняшней Хиросиме), но наиболее частым связующим звеном в фильме становится такая деталь, как человеческая рука. В первых же кадрах ленты изувеченные руки монтажно сопрягаются с руками любовников, что окрашивает их чувство в сумеречные, трагичные тона. Чуть позже героиня, заметив непроизвольное вздрагивание руки своего спящего возлюбленного, вспомнит о гибели другого, и перед нами промелькнет кадр, запечатлевший предсмертную судорогу человека, навсегда завладевшего памятью француженки. А потом, в сцене съемок, на экране появится огромный плакат с фотографией искалеченной руки, и режиссеру даже не понадобится прибегать к помощи монтажа, чтобы воскресить в сознании зрителя уже возникавшие образы прошлого и настоящего и создать ощущение их тесной взаимосвязи.
На кинематографе как составной части художественного мира Алена Рене (будь то воссоздание момента съемок, введение в ткань повествования фрагментов «любительских пленок» героев или хроникальных кадров) следует остановиться подробнее, поскольку режиссер нередко использует прием «фильм в фильме» в качестве основополагающего элемента своего хронотопа, позволяющего свести все линии воедино. Уже работая над документальными короткометражками, Рене не только тематически наметил круг своих интересов, но, прежде всего, осознал специфические особенности киноискусства, почувствовал его потенциал как средства, позволяющего сохранить воспоминания вечно живыми. Кинематограф предоставляет зрителю возможность в любой момент воскресить и вновь пережить фрагмент прошлого, стоит только зарядить пленку в проектор. Можно сказать, что название документального фильма Рене о национальной библиотеке «Вся память мира» относится прежде всего не к книгам, а к самому фильму как способу запечатления (а затем и реанимирования) момента действительности в совокупности с комплексом связанных с ней эмоций. В «Хиросиме» прием «кино в кино» заявлен двояко. С одной стороны, это вплетающиеся в игровое пространство хроникальные кадры, а с другой—съемки ленты «о мире», которые становятся мощным катализатором памяти, выступая в качестве одной из точек совпадения пространственно-временных координат.
<…>
Эксперименты, заявленные Рене в его первой полнометражной работе, будут продолжены и фильмом «В прошлом году в Мариенбаде»—картиной, вроде бы стоящей в том же ряду, что «Хиросима», но в то же время выводящей поиски режиссера на несколько иной уровень. Безусловно, одну из центральных ролей здесь вновь играет тема памяти, ведь именно с помощью воспоминаний герой пытается вырвать свою возлюбленную из мрачного великолепия замка, населенного людьми-статуями (впоследствии этот образ будет реанимирован в одном из пластов фильма «Жизнь—это роман»). Между тем проекция на экран режиссерского видения на сей раз осуществляется через еще более усложненный хронотоп.
<…>
Ален Роб-Грийе встал во главе «школы взгляда», основав такое течение, как вещизм (или шозизм—от французского chose—вещь). Как и остальные представители «нового романа», он восстал против традиционной нарративности романа «бальзаковского», основанного на психологическом анализе, на изучении страсти. В произведениях классической литературы Роб-Грийе порицал потребность во всезнающем повествователе, стремление замкнуть вещь внутри конкретной знаковой системы, необходимость соблюдения единства времени и места как неотъемлемого закона повествования, одним словом, против той «закоснелой» формы, которая, так или иначе, ограничивает свободу читателя. Особое неприятие писателя вызывали те культурные наслоения (психологические, моральные и метафизические), которыми за триста лет обросли на страницах литературных произведений объекты окружающего мира, тогда как на самом деле «мир не является ни значимым, ни абсурдным. Он просто есть»[3]. «Вокруг нас, бросая вызов своре наших животных или обиходно-бытовых прилагательных, присутствуют вещи. Их поверхность чиста и ровна, нетронута, лишена двусмысленного блеска и прозрачности. И вся наша литература до сих пор не смогла ни приоткрыть малейшего ее уголка, ни выровнять малейшего ее изгиба»[4],—сетует Роб-Грийе. Стремясь к освобождению этих предметов от наносных значений, он призывает своих коллег по перу отказаться от «решетки толкований» и обратиться к неисследованной вселенной предметов, взятых во всей их первозданной чистоте, и по-новому взглянуть на вещи, не пытаясь наделить их строго определенным смыслом. Именно из этих положений складывается идеальный образ новой литературы: «В будущих романных построениях действия и объекты будут наличествовать, прежде чем стать чем-то; и они будут наличествовать и впоследствии, весомые, неизменные, всегда присутствующие, как бы насмехающиеся над собственным смыслом—тем самым, что напрасно старается свести их к роли случайных орудий, к роли недолговечного и постыдного материала, которому всего лишь придает форму—причем произвольно—высшая истина, озвученная человеком и воплощенная в ней, чтобы тут же отбросить это не слишком удобное вспомогательное средство обратно в забвение, во мрак»[5].
Нет ничего удивительного в том, что такого рода взгляды, в конце концов, привели теоретика и практика шозизма к экранным экспериментам. Уже в одной из своих ранних статей «Путь для будущего романа» (1956) Роб-Грийе в самой специфике кинематографа разглядел потенциал, средство автоматического освобождения вещи от привнесенного извне. Описывая эффект, который неизменно возникает при экранизации даже традиционных литературных произведений, представитель «школы взгляда» с удивлением замечал: «Кино, которое тоже унаследовало психологическую и натуралистическую традиции, чаще всего имеет целью лишь перенесение повествования в ряд образов: оно стремится только представить зрителю посредством нескольких тщательно отобранных эпизодов то значение, которое для читателей свободно выражалось в предложениях. Однако киноповествование то и дело вырывает нас из внутреннего комфорта, чтобы бросить в этот предлагаемый мир с такой силой, которую вряд ли найдешь в соответствующем ему письменном тексте—романе или сценарии»[6]. Тот внимательный и, вместе с тем, непредвзятый взгляд, который, по мысли Роб-Грийе, должен был стать основной движущей силой «нового романа», оказался органичным свойством экранного искусства, а, значит, приход основателя вещизма в кинематограф был предопределен.
В поисках иллюзорного прошлого
Фильм «В прошлом году в Мариенбаде» (1961)—уникальный пример полного согласия и взаимопонимания между режиссером и сценаристом. В тот момент, когда продюсерам ленты пришла идея устроить встречу этих двух авторов на экране, на свет появился один из самых ярких (хотя и очень недолговременных) союзов в истории кино. Роб-Грийе тут же согласился на предложенное Пьером Куро и Раймоном Форманом сотрудничество с Рене, тем более что в их творческих устремлениях было достаточно общего. Представителю «нового романа» были близки многие взгляды режиссера, но прежде всего—характерная и для большинства его собственных романов попытка «выстроить чисто ментальные пространство и время—быть может, пространство и время сна или памяти, в общем, всяческой жизни чувств,—без особой заботы о традиционных причинно-следственных связях или о соблюдении строгой исторической хронологии»[7]. При первой же встрече сценарист и режиссер проявили полное единодушие во взглядах на природу кино. Такая же гармония царила между ними и при работе над постановкой ленты, когда Рене из нескольких предложенных писателем проектов выбрал один, который получил название «В прошлом году в Мариенбаде». Впоследствии во введении к своему кинороману Роб-Грийе вспоминал: «Согласие между Аленом Рене и мной установилось лишь потому, что мы с самого начала увидели фильм одинаковым образом, причем не приблизительно одинаково, а со всей точностью—и общую его архитектонику, и построение мельчайших деталей. То, что писал я, как будто уже было у него в голове: то, что добавлял при съемках он, оказывалось тем, что мог бы придумать и я»[8].
Между тем можно говорить о том, что Роб-Грийе стал здесь не просто сценаристом, но и фактически полноправным соавтором картины. Ленту с полной уверенностью можно назвать и произведением Роб-Грийе, поскольку он не просто изложил «сюжет», но и предопределил на страницах киноромана визуальный облик будущей картины. Сценарист фактически сделал в своем киноромане покадровое описание будущей ленты, включающее весь комплекс выразительных средств, начиная с точного описания траектории движения камеры и заканчивая обозначением всевозможных шумов. При этом в процессе работы над фильмом режиссер практически буквально перенес сценарий на экран. Правда, иногда сценаристу отказывает чувство меры, и он излишне увлекается своими идеями и ставит перед режиссером и оператором задачи довольно сложные, практически невыполнимые (что во многом связано с неопытностью Роб-Грийе в области кино). В этих случаях Рене брал инициативу в свои руки, внося лишь незначительные коррективы, которые не искажали, но, напротив, лишь подчеркивали замысел его соавтора.
Тем не менее, в то время, как в отношениях между автором сценария и режиссером царило полное согласие, отзывы критики о ленте были далеко не столь единодушны. Если одни принимали «В прошлом году в Мариенбаде» с восторгом (фильм получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале и был удостоен премии Мельеса во Франции), то отношение к ленте других было крайне негативно (в лучшем случае воздавалось должное ее пластическим достоинствам и холодному режиссерскому мастерству). Прежде всего, раздражало отсутствие четкой хронологии, и как следствие—расплывчатость сюжета, невозможность разделения вымысла и реальности. Всякая попытка последовательно выстроить события и определить, где история начинается, а где заканчивается, неизменно натыкалась на все новые и новые препятствия. Зритель пребывал в растерянности: казалось, авторы ленты намеренно издеваются над своей аудиторией.
Действительно, сделав «В прошлом году в Мариенбаде» своим художественным манифестом, Рене и Роб-Грийе завязывают в этой картине столь изощренные (а потому и невероятно прочные) пространственно-временные «морские узлы», что бессмысленно пытаться развязать их, разыскивая в повествовании ту логику, которая позволила бы выстроить события в хронологически упорядоченную цепочку. Если в фильме «Хиросима—любовь моя» отношения между пространствами можно определить как взаимное отражение, в последовавшей за «Мариенбадом» «Мюриэли»—как наложение и скрещивание, а в более поздней ленте «Жизнь—это роман» три пространственно-временных пласта свободно сосуществуют рядом, практически не пересекаясь, но словно просвечивая одно через другое (иногда более, иногда менее отчетливо), то здесь события прошлого и настоящего тесно сплетаются, буквально прорастают друг в друге, так что развести, разделить их уже не представляется возможным. Впрочем, существенно здесь даже не столько виртуозное слияние всех моментов прошлого и настоящего, сколько уничтожение многочисленных барьеров, отделяющих воображаемое от действительного. И если Роб-Грийе уже так или иначе разрабатывал этот мотив в своих литературных экспериментах, то для режиссера фильма это едва ли не первый опыт обращения к проблематике, которая окажется одной из магистральных линий его последующих лент. Отныне одной из важнейших составляющих творчества Рене станет мотив зыбкости границ между истинным и мнимым, а мечты и фантазии составят в его фильмах особое измерение, оказавшись тем самым недостающим компонентом мозаики, из которой режиссер собирает пеструю картину жизни. Уже в «Мариенбаде» фантазийный пласт обретает равные права с темой памяти, а со временем он и вовсе оттеснит память на задний план.
<…>
Впрочем, такие понятия, как «прошлое» и «настоящее», обесцениваются в фильме еще и потому, что понять, какие из событий происходят в реальности, а какие являются лишь плодом фантазии кого-то из героев, тоже совершенно невозможно. Тема призрачности грани между вымыслом и действительностью, заданная мотивом «зазеркалья», последовательно постулируется сценаристом и режиссером и получает в ленте довольно полное и разностороннее развитие. Помимо образов, словно перешедших на экран из романа Роб-Грийе «В лабиринте» (как, например, изображение на картине, переходящее в реальность), авторы пользуются и таким приемом, как «театр в фильме». Текст, который изначально казался нам внутренним монологом героя, внезапно переходит в монолог сценический. При этом сам Х остается «участником» спектакля лишь до тех пор, пока камера скользит по напряженно застывшим лицам великосветской публики. Когда же в кадре, наконец, появляется сцена, герой словно передает эстафету, и монолог Х продолжает голос актера, участвующего в представлении. А между тем декорации спектакля являются стилизованной копией одного из мест, в котором впоследствии будет разворачиваться действие фильма, актриса в финале пьесы застывает в скульптурной позе, которая станет характерной для А, да и сама ситуация, которая разыгрывается на театральных подмостках, близка к той, которая составит основную «сюжетную линию» ленты. Что же это—реальная история, ставшая основой спектакля, или театральная пьеса, сюжет которой внезапно воплотился в жизнь? Искать в фильме единственно верный ответ на этот вопрос бессмысленно…
<…>
Впрочем, хотя Рене и Роб-Грийе блистательно разрушают пространственно-временные рамки и делают это невероятно последовательно, отдельные приемы могут показаться слишком самодостаточными, поскольку их способность выполнить в фильме поставленную задачу представляется довольно сомнительной. То, что на страницах киноромана становится активным элементом авторской концепции, на экране может обесцениться, превратиться в «вещь в себе», поскольку окажется вне поля зрительского внимания. Впрочем, перспектива быть не понятыми до конца не пугает Рене и Роб-Грийе. Такие знаки «смещения», как замена одной группы людей другой при сохранении той же композиции кадра, по всей вероятности, будут отрефлексированы читателем сценария («Камера тотчас начинает скользить вдоль этой группы в том же направлении, что и прежде, точно по той же траектории, что и в первый раз, и опять останавливается на группе из трех мужчин, находящейся сбоку. Но группа уже не та, хотя ее композиция в точности повторяется…»[12]). Зритель же, скорее всего, не осознает этого изменения, но, возможно, испытает ощущение дежа-вю, некое смутное беспокойство—чувство, важное как для режиссера, так и для сценариста, требующих от своей аудитории определенной активности. Как и в «Хиросиме», здесь нередко используется ассоциативный монтаж (к примеру, соединение кадров через подобие мизансцены), но в «Мариенбаде» этот прием зачастую служит не столько для достижения иллюзии стирания пространственно-временных границ (на которую и без того работает едва ли не каждый элемент фильма), сколько для того, чтобы «растормошить» зрителя.
<…>
Роб-Грийе же все то, что казалось зрителю непонятным и непривычным, выводил непосредственно из самой природы кино. Невозможность выстроить события в хронологическую цепочку автор сценария объясняет не свойствами психики своих героев, но спецификой экранного времени, которое представляет собой вечное настоящее. Как напишет Роб-Грийе во введении к «Мариенбаду», «сущностная характеристика изображения—его явленность, его присутствие в настоящем времени. Если литература располагает целой гаммой грамматических времен, позволяющих расположить события по отношению друг к другу, то об изображении можно сказать, что все его глаголы в настоящем (отчего столь странными, столь фальшивыми выглядят пресловутые “киноповести”, особого рода публикации, где восстановлено милое классическому роману литературное прошедшее время—passй simple!): ведь ясно, что видимое мной на экране происходит сейчас, что нам подается сам жест, а не отчет о нем»[14]. Именно «кинематографическое время» сценарист предлагает принять за точку отсчета, призывая аудиторию просто отдаться движению фильма, не пытаясь узреть в происходящем на экране некие проявления изощренной авторской логики.
<…>
Таким образом, сама аргументация, предложенная режиссером и сценаристом для объяснения необычной формы фильма, наглядно демонстрирует те различия, которые при всем обилии параллелей существуют между двумя этими авторами. Если для Рене смешение времен и смешение вымысла и реальности было лишь производной темы памяти, аллегорией субъективного мировосприятия, то для Роб-Грийе, напротив, вечное настоящее становится неким объективным фактором, органично вытекающим из самой природы экранного искусства, но, кроме того,—и одной из ступеней на пути к новому типу коммуникации между режиссером и зрителем, писателем и читателем. Сформировав в ходе совместной работы собственную систему образов, мотивов и тропов, Рене и Роб-Грийе вместе с тем окончательно определились и во взглядах. Каждый из них избрал свой путь, своеобразной отмычкой к которому могут послужить высказывания по поводу «Мариенбада».
Покорение пространства и времени
(Ален Рене после «Мариенбада») Итак, смелые эксперименты в области киноязыка, по сути, имели для Рене единственную цель—отражение внутреннего мира персонажа, поиск экранных эквивалентов тем процессам, которые происходят в индивидуальном сознании. Именно с этой точки зрения режиссера привлекала присущая кинематографу дискретность, в которой он увидел потенциал для создания наиболее полной картины мира, причем картины не столько объективной, сколько пропущенной через лабиринт сознания. Разумеется, традиционное линейное повествование с его завязкой, кульминацией и развязкой не способно было в полной мере отобразить извилистые пути человеческой мысли. Чтобы сделать внутренние движения видимыми, спроецировать их на плоскость экрана, требовалось отыскать некий эквивалент в киноязыке. «Классический фильм не может передать подлинного ритма современной жизни. Вы делаете сто разных дел в день—идете на занятия, в кино, на собрание своей ячейки и т.д. Современная жизнь прерывиста, это все ощущают, это отражают и живопись, и литература, почему же в кино не отразить такой прерывистости вместо того, чтобы цепляться за традиционное однолинейное построение?»[17]—говорит Рене и воплощает свой замысел, выискивая в каждом из фильмов возможность объединить, казалось бы, совсем разных людей; найти точку, в которой пересекутся пространственные и временные координаты. При всем холодном блеске изощренных форм фильм для Рене тоже становится отчасти исследованием внутреннего мира персонажей. И поскольку режиссера интересует прежде всего субъективное начало и его проекция в окружающую нас действительность, а точнее, категории сознательного и бессознательного как особого ракурса взгляда на реальность, то открытия в области пространства и времени тесно сопряжены с двумя основными темами, пронизывающими все творчество Рене. Это «память» с одной стороны и «реальное-воображаемое» (со всеми вытекающими из этого мотива вариациями)—с другой.
<…>
Фильм «Война окончена» (1966), унаследовавший от «Мюриэли» ее дискретность, становится в какой-то степени переломным с позиции перераспределения приоритетов между категориями памяти и воображения (как мысли, направленной в будущее).
<…>
Память постепенно перестает быть формообразующим элементом. Теперь Рене направляет свои эксперименты с пространством на раскрытие нового круга тем, в котором весь комплекс проблем, связанный с представлением о творчестве как точке пересечения фантазии и действительности сочетается с осознанием иллюзорности самого понятия реальности, а точнее,—невероятной многогранности самой жизни, где то, что казалось вымыслом, вполне может оказаться реальностью.
Впрочем, обращение к сфере творчества как к отраженной картине мира для Алена Рене уже не ново. Первую попытку такого рода анализа он совершил уже в своей дебютной документальной короткометражке «Ван Гог», поведав о художнике через образы его живописи, причем, по признанию самого режиссера, нередко «подменяя историю его жизни историей его творчества»[22]. Более того, режиссер не просто использовал произведения Ван Гога для отражения внутреннего мира творца, но и попробовал представить художественные образы как часть действительности, пытаясь «выяснить, могут ли нарисованные деревья, нарисованные люди, нарисованные дома при помощи монтажа сыграть в рассказе роль реальных предметов»[23]. Но если в документальной ленте Рене только нащупывал возможности установления связей между объективным миром реальности и субъективным миром творчества художника, то в своих игровых фильмах он уже активно сводит эти две вселенные в одном пространстве, обнаруживая тем самым их взаимопроникаемость. Так происходит, например, в «Провидении» (1977), где реальность, представленная в светлых идиллических тонах, резко контрастирует с довольно мрачной фантазией старого писателя, действующими лицами которой становится его ближайшее окружение.
<…>
Вместе с тем выразить неподвластность жизни однолинейной интерпретации в наибольшей степени режиссеру удалось в фильме «Мой американский дядюшка» (1978), который, с одной стороны, стоит в творчестве Рене несколько особняком, а, с другой, впитал в себя все лучшее, чего смог достичь режиссер в области преобразования киноязыка вообще и его пространственно-временной категории в частности. Обратившись к экранизации научных трудов биолога Лабори, режиссер создает своеобразный фильм-опыт, в котором иллюстрацией поведения людей стали действия лабораторных крыс в аналогичных моделируемых ситуациях. Рене вновь прибегает к своим излюбленным приемам, позволяющим соединить все события в единый пространственно-временной континуум. И если в первой части он долгое время ведет три параллельных линейных повествования, которые сближает лишь прохождение героями того или иного жизненного этапа, и довольно долго медлит, чтобы свести воедино судьбы хотя бы двоих персонажей, то во второй половине фильма пространство и время выстраиваются по гораздо более запутанной схеме. С одной стороны, это набор хронологически разбросанных ситуаций, подобранных и объединенных по принципу аналогии между поведением людей и подопытных крыс. С другой стороны, возвращение одного из героев на остров своего детства пробуждает воспоминания, что находит отражение в серии излюбленных режиссером флэшбеков.
Вновь используется здесь и прием со введением в ткань повествования фрагментов из других фильмов (в данном случае это кадры с участием Жана Габена, Жана Маре и Даниэль Дарьё, каждый из которых является кумиром одного из героев). Правда, в этой ленте элементы «кино в кино» служат уже не как связующее звено между прошлым и будущим, но как выражение внутреннего мира персонажей. <…>
<…>
Трудный путь к себе
(Ален Роб-Грийе после «Мариенбада») Во время работы над сценарием фильма «В прошлом году в Мариенбаде» Роб-Грийе в полной мере ощутил, что именно в экранных образах система его взглядов на природу творчества может найти наиболее адекватное воплощение. И если кинематограф и прежде постоянно оставался в поле внимания писателя, то теперь он решил непосредственно обратиться к этому виду искусства. Продолжая свои поиски, он дебютирует в качестве режиссера фильмом «Бессмертная» и, начиная с 1963 года, совмещает литературный труд с работой в кино. Впрочем, экранные опыты лидера «нового романа» не получили признания, и в критических исследованиях, посвященных его творчеству, оставались, как правило, где-то на периферии. Имя Алена Роб-Грийе принято рассматривать, прежде всего, в связи с литературой. Ценным вкладом в развитие экранного искусства зачастую признают только сценарий фильма «В прошлом году в Мариенбаде», а косвенное влияние творчества Роб-Грийе на кинематограф и, в первую очередь, на французскую «новую волну» усматривают в создании «негативистских» настроений, которые пронизывают его теоретические и художественные произведения, связанных с отрицанием старых догматов. Обратную связь, то есть воздействие киноискусства на литературную деятельность писателя, находят, прежде всего, в чисто внешних проявлениях, выразившихся в заимствовании отдельных элементов, которые помогают автору в его произведениях точнее реконструировать окружающий мир (сама форма большинства романов, близкая к сценарной, особое ракурсное видение, монтажный принцип мышления, нашедший воплощение на словесном уровне). Однако проявлениям этого «программного» писателя в качестве режиссера-постановщика не уделяется достаточно внимания, а его фильмы обычно представляются как нечто красивое, но безумно скучное. Столкнувшись с такой оценкой своих кинематографических опытов, сам Роб-Грийе грустно иронизировал: «Когда я начинал писать книги, обо мне говорили: это не настоящий писатель, а агроном, который воображает себя писателем. Но когда я начал снимать фильмы, все сказали: да это же просто писатель, который вообразил, будто может делать кино!»[25]
<…> …в кинематографе Роб-Грийе интересует, прежде всего, не возможность заимствования конкретных принципов, а сущность этого явления вообще, то появление в его романах кинематографических структур следует рассматривать не как точечные, единичные случаи, но как принципиальный подход к материалу, требующий подчинения романной формы кинематографическим правилам игры. И если в литературных произведениях автора значительное место занимают приемы экранного искусства, то в его фильмах интересно не только появление отдельных моментов, несущих на себе легкий отпечаток литературности, но и то, что сама природа кинематографа здесь зачастую раскрывается в своем обнаженно-чистом (а потому кажущимся подчеркнуто-утрированным) виде.
<…>
Между тем педалирование «кинематографичности» и постоянные отсылки к природе экранного зрелища имели для Роб-Грийе особый смысл, в связи с чем многие нападки на его творчество были порождены искаженным восприятием его теоретических взглядов. Прежде всего, не совсем справедливо было обвинение Роб-Грийе в стремлении к полной объективности. С самого начала задачей шозизма было не просто некое абстрактное освобождение вещи от всяких чужеродных смыслов, но, в первую очередь,—избавление аудитории от авторского диктата.
Из последовательно изложенных в статье «Новый роман, новый человек» положений (роман не как теория, а как исследование; концентрация внимания на человеке и его месте в мире; стремление к полной субъективности: обращение к непредубежденным людям; отказ от готовых значений) становится очевиден основной пафос писателя, связанный с потребностью освобождения и, прежде всего,—освобождения читателя. Именно этой цели в разработанной Роб-Грийе системе выразительных средств и должны были послужить отсылки к кинематографу.
<…>
Роб-Грийе предлагает своим читателям и зрителям новую коммуникативную стратегию, основные «вехи» которой были позаимствованы им у кинематографа. При этом он не только прибегает к имитации или к подчеркиванию технических особенностей этого вида искусства, но и исходит из специфики рецепции экранного образа. Надо заметить, что каждый из активизированных Роб-Грийе элементов киноязыка сам по себе уже является шагом к пробуждению в зрителе или читателе творческого начала. Но лидер «нового романа» не ограничивается точечными эффектами и последовательно выстраивает в своих романах и фильмах сложную систему, позволяющую в полной мере выявить, какая роль отводится каждому из участников коммуникации.
<…>
Именно в природе кинематографа следует искать истоки той оригинальной трактовки, которой в произведениях Роб-Грийе подвергаются категории пространства и времени. Изначально присуще экранному искусству и единение воображаемого и реального—прием, также ставший одной из характерных особенностей поэтики автора. И если Алену Рене средства, разработанные в ленте «В прошлом году в Мариенбаде», позволили найти наиболее адекватную форму для отображения процессов, происходящих в сознании героя, то его соавтор использует те же приемы в других целях. Отсутствие пространственно-временных барьеров, слияние вымысла и действительности—в той или иной степени эти «недостатки» проходят сквозь все творчество писателя и режиссера, и, как это ни парадоксально, именно через их кажущуюся искусственность зритель обретает определенную долю независимости.
Очевидно, что герои Роб-Грийе всецело принадлежат своему особому миру, у которого есть определенные законы. Средой их обитания становится сам текст, поэтому у многих из них даже нет имен. Как мы уже отмечали, центральные персонажи фильма «В прошлом году в Мариенбаде» (незнакомец, героиня и ее предполагаемый муж), составляющие своеобразный любовный треугольник, названы в киноромане только как Х (Джорджо Альбертацци), А (Дельфин Сейриг) и М (Саша Питоев). Заглавные буквы заменяют имена и героям фильма «Бессмертная», а персонажами романа «В лабиринте» становятся некие солдат, мальчик, молодая женщина и инвалид. Изначально нет имени и у героини фильма «Прекрасная пленница», которая утверждает, что потеряла его, и обещает сообщить, когда найдет. Герои Роб-Грийе вообще зачастую ассоциируются с мифологическими персонажами, и не только по причине своей принадлежности к причудливому миру. Прежде всего, об их «ином» происхождении говорит отсутствие памяти. По сути, не только пространство таинственного замка в фильме «В прошлом году в Мариенбаде», но и среда существования большинства других героев Роб-Грийе представляет собой ирреальное царство забвения, будь то заснеженный город из романа «В лабиринте», или город Коконг (роман «Дом свиданий»), или Стамбул в фильме «Бессмертная», вроде бы вполне конкретные в своем наполнении деталями, характерными для данной географической местности, но в то же время призрачные.
Впрочем, подобное «беспамятство» легко объяснимо. Как в экранных, так и в литературных произведениях Роб-Грийе мы сталкиваемся с особым типом времени—временем кинематографическим, причем взятым в чистой форме, как имманентно присущее экранным произведениям свойство. Здесь нет прошлого и будущего, а есть только настоящее, «сейчас», которое начинается в тот момент, когда в зале гаснет свет, и заканчивается, когда фильм подходит к финалу. Рассматривая кинематограф и литературу как виды искусства, разворачивающиеся во времени, автор берет за основу специфику восприятия экранного времени и не только переносит ее в пространство литературного текста, но и подчеркивает ее в кино, намеренно отказываясь от попыток хронологической организации материала по причине нелинейной природы господствующего здесь времени. <…>
Фильм «В прошлом году в Мариенбаде» можно рассматривать как своеобразную модель всего творчества Роб-Грийе, а потому неслучайно закадровый голос воспринимается и как внутренний монолог Х, и как текст от автора. Х, пытаясь вернуть возлюбленную к жизни, вывести ее из этого царства мертвых, стремится силой убеждения включить ее в пространство своей реальности, где царит особое нехронологическое время, прибегая тем самым к тем же приемам анимирования, которые использует и «ожививший» его сценарист. Остальные персонажи, застывшие в неестественно-неподвижных позах, вырваны из контекста непрерывного времени, а потому кажутся мертвыми. По сути, они уподобляются кинематографическим кадрикам, которые вне включения во временной контекст (т.е. до тех пор, пока кинопленка не придет в движение) остаются лишь механическим запечатлением реальности, аналогом фотографии, вырывающей человека из настоящего, а потому в некоторой степени умерщвляющей его. Так, в фильме «Игра с огнем» процесс фотографирования напрямую уподобляется убийству героини Сильвии Кристель через сопровождающий данный эпизод звуковой ряд (звуки выстрелов и команда: «Огонь!»).
<…>
Однако центральной проблемой, волновавшей Роб-Грийе и ставшей лейтмотивом всех его произведений, стала неразличимость воображаемого и действительного. По сути, даже кинематографическая реальность, обретающая особую достоверность за счет фотографической природы ее запечатления, в то же время является лишь разыгранной актерами и зачастую придуманной ситуацией. И наоборот, выдуманные персонажи и события обретают на экране вполне реальное воплощение в игре актеров. Единственной реальностью, таким образом, становится реальность происходящего на экране, а на всех событиях образуется налет амбивалентности. В первую очередь это отражается на сюжете. <…>
В пространстве своих произведений (и прежде всего—кинематографических) автор виртуозно объединяет вымысел с действительностью. Зритель и герой тщетно будут искать конкретных доказательств: приметы, позволяющее отнести событие к той или иной области, оказываются заведомо ложными. Так, в ленте «Прекрасная пленница» все факты говорят о том, что ночь на вилле с таинственной незнакомкой лишь пригрезилась Вальтеру (особняк давно уже не отпирался, да и девушка умерла несколько лет назад). Однако тут же обнаруживаются предметы, свидетельствующие об обратном: одна, а затем и вторая окровавленная туфелька доказывают, что ночное приключение было не сном, а явью. Между тем вскоре эти предметы утрачивают статус улик, поскольку по ходу фильма появляется еще одна, уже третья туфелька.
Особенно ярким примером осознания единства упомянутых категорий может послужить фильм «Игра с огнем», где осуществлена блистательная попытка «внутрикадрового монтажа» фантазийного и реального пластов. <…>
<…>
Разработка главного своего мотива привела Роб-Грийе к диалогу с Рене Магриттом—художником, в творчестве которого тесно переплелись иллюзия и реальность. Дело в том, что целый пласт произведений Роб-Грийе связан с явлением «оживающих картин», также обозначающем зыбкость границ между действительностью и ее воплощением—теперь на полотнах (романы «В лабиринте», «Проект революции в Нью-Йорке»). Особенно интересно этот прием используется в фильме «Прекрасная пленница», где не только прокламируется иллюзорность понятия реальности, но и сама рассказанная автором история органично вытекает из составляющих картину образов Рене Магритта, которые заимствованы не только из полотна, появляющегося на экране, но и из других творений художника. Роб-Грийе и ранее обращался к отдельным мотивам произведений Магритта. И если «Прекрасная пленница» становится некой мозаикой живописных цитат, собрав которую можно получить довольно полную картину творчества художника, то в других фильмах (и в романах) Роб-Грийе также эксплуатируются позаимствованные у Магритта мотивы. Определенная перекличка существует даже между персонажами, появляющимися в произведениях обоих мастеров. Так, безликие люди в котелках, населяющие полотна художника, в текстах режиссера и писателя возникают как представители неких секретных служб. Впрочем, диалог между Роб-Грийе и Магриттом лежит, скорее, не в области объектов, но в области взглядов.
<…>
Концепция Роб-Грийе, который в своих романах фактически становится режиссером, выражается хотя бы в том, что он зачастую заставляет действующих лиц по нескольку раз повторять одно и то же действие, как бы репетируя с актерами ту или иную сценку, чтобы найти наиболее интересный вариант ее воплощения. Литературные повторы, таким образом, становятся аналогами кинодублей (и формируют структуру лабиринта). К примеру, в «Доме свиданий» неоднократно повторяется эпизод убийства, причем, каждый раз описание событий обрастает новыми подробностями.
<…>
Кинематографические средства выразительности позволили Роб-Грийе переосмыслить взгляд на предметный мир, который, как кажется, зачастую становится едва ли не главным героем его произведений. Подробное описание, пристальное рассматривание вещи по частям, как бы имитируя движение камеры в цикле рассказов «Мгновенные снимки», позволило автору избавиться от традиционного символического толкования детали, а значит, обратиться к вещам в их чистом виде. В кинематографе реабилитация вещи происходит еще более радикальным способом: равномерное скольжение камеры по интерьерам и фигурам героев стирает сложившуюся иерархию. Предмет становится не менее значимым, чем герой-актер, и наоборот. В этом смысле Роб-Грийе следует по стопам Орсона Уэллса, который освободил глаз зрителя, оперируя многоплановыми кадрами и минимально используя укрупнение в качестве средства управления вниманием. (В своих интервью автор «Гражданина Кейна» замечал: «Я против крупных планов потому, что необходимо дать зрителю возможность свободно выбирать взглядом в пределах кадра то, что он хочет увидеть. Я не люблю принуждать. Использовать крупные планы—значит принуждать: зритель может увидеть только что-то одно»[27]). Роб-Грийе идет еще дальше, не только не разделяя предметы на значительные и незначительные, но и вписывая в этот ряд человека. Он отказывается от любой иерархии, предоставляя зрителю возможность самому определить, какой из объектов в кадре станет для него главным, а какой—второстепенным.
<…>
Несмотря на программное стремление к отказу от детали, Роб-Грийе все же расставляет в своих произведениях смысловые акценты. Однако это относится лишь к тем произведениям искусства, которые априорно не могут рассматриваться как «вещь в себе» и интересуют автора в качестве зримого воплощения фантазии творца в запечатленной им модели реальности. Все эти скульптуры и картины могут служить ключом к пониманию законов произведения, одним из путей подхода к нему, но никак не выступают в качестве единственной его трактовки. К примеру, в ленте «В прошлом году в Мариенбаде» одним из основных «персонажей» становится мраморная статуя: не случайно Ален Рене как-то сказал, что фильм представлялся его авторам как «скульптура, на которую смотрят то под одним углом, то под другим, то отходят от нее, то вновь приближаются». Собственно говоря, одно из немногих явственных проявлений эмоций героями фильма, сопровождающееся более или менее живым смехом М, связано именно с обсуждением статуи, а точнее, с горячим желанием ее оживить. Здесь опять же вступает в действие традиционный для Роб-Грийе механизм: статуя, включенная в сотворенную Х и М реальность, обретает жизнь. И наоборот, становится олицетворением мертвенной неподвижности, когда А развенчивает придуманную героями легенду, сообщая, что это не воплощенное в мраморе движение, а условное решение официальной сцены клятвы. Стремление освободить живых персонажей из каменных оков неожиданно натолкнулось на «сопротивление». Быть может, здесь таится разгадка отеля как царства мертвых, связанная с сознательным стремлением людей остаться в веках, жертвуя при этом сиюминутностью настоящего? Наверное, возможна и такая трактовка, однако сам автор не ограничивает воображение зрителя. Между тем эту сцену со статуей можно рассматривать и как метафору всего творчества Роб-Грийе: аллегорическое обращение к зрителю с призывом не искать готовых решений, но высвободить собственную фантазию. Только рожденная воображением героев история пробуждает в статуе дыхание жизни, тогда как единственно верное объяснение поз и жестов мраморных фигур мгновенно разрушает волшебную иллюзию, и скульптура вновь превращается в бездушную каменную глыбу.
Таким образом, от аудитории требуется лишь принять правила игры, отказавшись от апелляций к автору в поисках разъяснения. В остальном зритель и читатель может как домысливать то, что скрывается за внешней индифферентностью героев, так и конструировать свой сюжет, выбирая из предложенных вариантов события наиболее понравившийся и вступая тем самым в партнерские отношения с самим автором, становясь не только главным персонажем произведения, но и его создателем.
Собственно говоря, такого рода реконструкция, индивидуальное прочтение материала становится одной из главных составляющих восприятия произведений Роб-Грийе, причем целью здесь становится уже не считывание смыслов, но сам процесс поиска ключа—аналог попытки самопознания. <…>
<…>
* * *
Итак, объединив усилия при работе над фильмом «В прошлом году в Маpиенбаде», Ален Рене и Ален Роб-Грийе доказали плодотворность сотрудничества между «новой волной» и «новым романом» и подтвердили общность стоящих перед этими течениями задач, связанных с преобразованиями в области закоснелой формы и утратившего актуальность языка. Между тем, совместно разработав средства, позволившие сбросить оковы линейного сюжета и произвести революцию в области кинематографических форм, каждый из создателей фильма избрал свой путь, и писатель, получивший первые уроки режиссуры от своего соавтора, не пошел в собственных экранных произведениях по его стопам. Одни и те же приемы в дальнейшем служили каждому из творцов для разных целей. Для Рене уничтожение пространственно-временных границ и стирание различий между воображаемым и реальным становится средством отображения прихотливых особенностей человеческого сознания, более того—средством создания многогранной картины мира, одной из важнейших составляющих которой будет индивидуальный ракурс зрения. В преломлении творчества Роб-Грийе те же мотивы получают иное осмысление и оказываются составными частями нового коммуникативного кода, приняв который зритель не просто получает свободу от авторского диктата, но и обретает возможность посредством творческого осмысления материала узнать что-то и о самом себе.
Между тем стремления, которыми руководствовались Рене и Роб-Грийе, в общем-то, не так уж и различны. Каждый из них делает свой шаг на пути к исследованию внутреннего мира человека (будь то герой у Алена Рене или непосредственно сам зритель в случае Алена Роб-Грийе), приоткрывая перед нами завесу, за которой скрывается таинственный мир подсознательного. В своих поисках эти творцы, наряду с такими авторами, как Феллини, Бергман, Тарковский, становятся прямыми наследниками Эйзенштейна с его идеей внутреннего монолога. Обращаясь к постижению бесконечно загадочной сферы чувств и мыслей, все эти режиссеры так или иначе ломали сложившиеся представления о киноязыке, пытаясь спроецировать вовне особенности мировосприятия личности, найти им некий экранный эквивалент. В таких фильмах, как «Земляничная поляна», «Амаркорд», «Зеркало», можно найти определенное сходство с работами создателей «Мариенбада» (условность категорий прошлого и настоящего, стирание границы между реальным и воображаемым). И это не удивительно, ведь такова специфика человеческого сознания—сознания автора, героя или аудитории. Отыскав адекватные кинематографические формы для отображения внутренней жизни человека, все эти режиссеры доказали, что исследование сферы подсознательного не является исключительно прерогативой литературы, и далеко не последнюю роль в процессе освоения экранным искусством сей потаенной области сыграли Ален Рене и Ален Роб-Грийе.
1. Р е н е А л е н. Сборник. М., 1982, с. 163.
<…>
3. Р о б - Г р и й е А л е н. Путь для будущего романа.—В кн.: Р о б - Г р и й е А л е н. Дом свиданий. СПб., 2000, с. 452.
4. Там же, с. 453.
5. Там же, с. 454–455.
6. Там же, с. 453.
7. Р о б - Г р и й е А л е н. В прошлом году в Мариенбаде.—В кн.: Р о б - Г р и й е А л е н. Дом свиданий, с. 279.
8. Там же.
<…>
12. Там же, с. 307.
<…>
14. Р о б - Г р и й е А л е н. В прошлом году в Мариенбаде.—В кн.: Р о б - Г р и й е А л е н. Дом свиданий, с. 284.
<…>
17. Р е н е А л е н, указ. изд., с. 167.
<…>
22. Р е н е А л е н, указ. изд., с. 177.
23. Там же, с. 176.
<…>
25. Цит. по: А к и м о в О. Красный шарф.—В кн.: Р о б - Г р и й е А л е н. Дом свиданий. СПб., 2000, с. 15.
<…>
27. У э л л с О р с о н. Статьи. Свидетельства. Интервью. Сборник. М., 1975, с. 213.
<…>
Информацию о возможности приобретения номера журнала с полной версией этой статьи можно найти здесь. |
|
 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| « | » |
является незаконным.